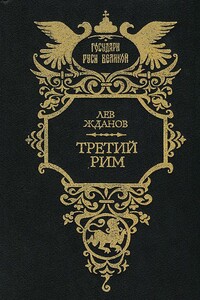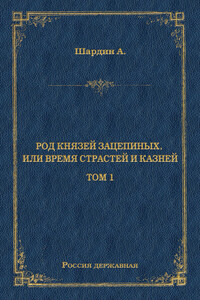Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней | страница 152
— Начинайте, дети, славословие и радость, — сказал он. Полилась весёлая, ухарская песня, всё закричало, заскакало в совершенном бешенстве, раздались звуки сопелки и рожка; всё кружилось, бесновалось, скакало под мотив сопелки и рожков, ускоряясь с каждым тактом. Между тем постепенно свечи тушились, лампады гасли, в храмине становилось темнее, горел на столике только подсвечник о семи свечах. Пляска становилась живее, безумнее; местами среди песни раздавались взвизги и вскрики, иногда слышались собачий лай, мяуканье кошки, ржание лошади или мычанье быка; скаканье, прыганье, верченье в общем крике и гаме казались чем-то невероятным… Потом вдруг разом погас и последний огонь в подсвечнике. Сопелка, рожок и песня ещё продолжались. В это время Елпидифор почувствовал, что его кто-то обхватил.
— Овца или баран? — спросил охвативший у него на ухо.
— Баран! — машинально отвечал Елпидифор. Охвативший исчез, но через минуту он был охвачен вновь и опять тот же вопрос.
— Баран! — отвечал опять Елпидифор.
Тут кто-то нежно прижался к нему, шепча на ухо: «Овца». И он очутился со своей овцой на нарах. Темнота покрыла общий разврат.
— Ты видел теперь? — спросила Фёкла, когда они возвращались с Елпидифором из Гончарной слободы уже под утро.
— Как не видать, хоть и не знаю, кого мне Бог дал. Будто и молодая, а бог её весть какая!
— Оттого-то я и сказала, что я уже не твоя, а Божья. Кому Бог приведёт, тому и достаюсь.
— Сказывай сказки! Будто нельзя сговориться да держать друг друга на примете.
— Великий грех! Людей обманешь, а Бога нет. Накажет Бог! Сказано: «Без хитрости, лукавства, а с тёплым чувством и верою…» На меня за тебя и так епитимью наложили. Ты не должен знать, кто к тебе; она не должна знать к кому… Бог знает, кому что нужно. А дети все общие.
— Ну, признаться, пошалить так хорошо, отчего и нет, потом попу покаяться можно. А чтобы жить таким средствием… Нет, не хотел бы! Подумай, вот у меня теперь только одна и радость — это мой Пахомка… Уж как отмолил-то я нонче, чтобы его в Москву не посылали, так, кажись, сам родился вновь… Да и живу, — вот с тобой тогда расстался, оженился, — с женой живём ладно; оно особой какой любови, как вот хоть бы тебя, например, любил, у нас нет; а жизнь-то вся вот в них, в детках-то, каковы есть. Помню, как Пахомка первый раз пошёл мне лошадь запрягать, измаялся я за него, думаю: «Вдруг лошадь-то ударит или лягнёт как», не выдержал; пошёл сам. А как подал-то он мне молодцом таким, так будто царством подарил; даже слёзы из глаз посыпались. А тут как же, главной-то радости — видеть и любить детей своих и не будет. Нет, Фёкла Яковлевна, как хочешь, а не так Бог велел.