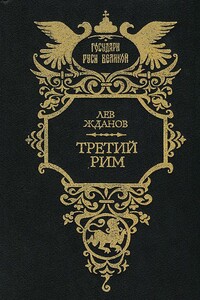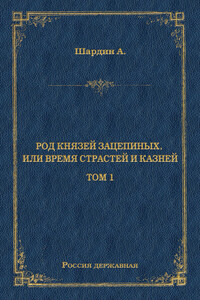Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней | страница 136
А Миних, Остерман, Бестужев, Головкин — слуги моего отца, им вызванные, поднятые, облагодетельствованные, что им нужно? Зачем они не хотят понять, что если я подчинилась им в политике добровольно, то всякое наблюдение за моими частными, домашними делами, лично за мной мне крайне обидно. Оно меня стесняет, сердит, выводит из себя… Неблагодарные! И всё это в память моего отца. Между тем Лесток прав. Я не живу, а мучаюсь. Я мученица своих мыслей, своего воображения. И если будет продолжаться так, я действительно сойду с ума. Зная, что сближением с кем-нибудь я подвергаю его, моего избранного, всем ужасам пытки, всем терзаниям лютости своих злодеев, и зная, что тайны сохранить невозможно, я, разумеется, должна беречься сближения с кем бы то ни было. Не для себя, нет! Обо мне и так бог знает чего не говорили, но ради того, с кем бы я сблизилась! Уже одна мысль, что моя любовь может вести к самым тяжким истязаниям того, кого я полюблю, заставляет стынуть кровь в жилах, заставляет отказаться от всего… Но, отказываясь, я принимаю на себя такой крест, который выше сил моих, который меня гнетёт, давит, отнимает всякую энергию, всякую волю, а иногда доводит до бешенства. Бывает время, что я не помню себя, что готова бываю идти на нож, на скандал и бог знает на что! О Боже, помоги мне! Дай мне силы, Господи, переносить с терпением весь этот гнёт! А тут ещё кровавые сцены: Волынский, Еропкин, Хрущов, Долгорукие, особенно Василий Лукич. Я его знала и уважала. Он был умный и верный слуга моему отцу и матери. Его посольство в Швецию было — заслуга. И вдруг в благодарность — смертная казнь. Когда я читала описание его смерти, я упала без памяти; пусть он был виноват передо мной, не поддержал моих прав, но передо мной, а не перед ними! Я верно не казнила бы его, а они — уж именно в благодарность!.. И оттого теперь я страдаю, невыносимо страдаю. Всякая крестьянка, всякая нищая находит хоть кого-нибудь, только я, одна я… Как жарко! Мне кажется, что дом этот — моя тюрьма, в которой нет света, нет выхода. Пойти освежиться, пройтись по саду, а то мне всё мерещится Волынский. Боже, как это ужасно!»
Цесаревна накинула на голову небольшой платочек по-русски, спустилась по одной из боковых лестниц и вышла во двор. Часовой, стоявший у кордегардии, заметил цесаревну и ударил в караульный колокол; караул выбежал, отдал честь. Цесаревна отмахнулась рукой и прошла в сад.
Но едва она вышла на площадку перед цветником, как увидела вдали, в клумбе зелени, ещё двух солдат в полном вооружении. Не успела она дать себе отчёта, что это за солдаты и зачем они здесь, как тот, который стоял впереди, сказал: «Марш!» — и стройным, ровным шагом подошёл к ней. Она невольно остановила на нём своё внимание. Не доходя до неё полутора шагов, он остановился, на мгновение замер, потом отчётливо, чисто выполнил три темпа на караул, раздавшиеся в воздухе среди мёртвой тишины. Ружьё в его руках обернулось для отдания чести. Взяв на караул, солдат на секунду замер опять, потом отчеканил звонко, весело, будто ударил в серебряный колоколец, проговорив: