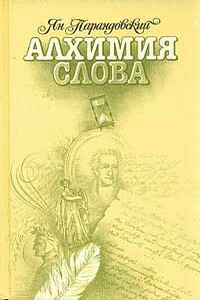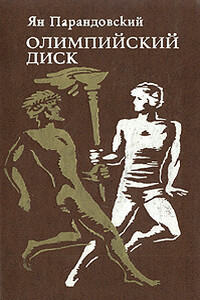Король жизни. King of life | страница 22
На следующий день Шерард принес ему рифму «ненюфар».
Так возник «Сфинкс» — тяжелые бодлеровские стихи, в которых, как на фризе сновидений, проходят извечные образы кошмаров: морской конь, гриф, Гор с головою ястреба, Пашт со зрачками из зеленых бериллов, Аммон на пьедестале из порфира и перламутра, Нереиды с грудями из горного хрусталя — фантастический зверинец мифов, искрящийся самоцветами, застланный тьмою, поэма, повисшая между «Вороном» По и «Искушением св. Антония» Флобера. Никогда еще Уайльд не работал так напряженно над звучанием каждого стиха, над отбором и местом каждого слова. То был труд ювелира — слова, уложенные в строфы, обладали блеском и огранкой драгоценных камней.
Драгоценности Оскар любил любовью воображения, чувством причудливым и утонченным, порожденным волшебною тайной этих осколков мертвой материи, в которых человечество с незапамятных времен видело символы чар, молитвы, знания и могущества. Силою непостижимых связей открывались пути от камней, добываемых во мраке недр земных, к звездам, сверкающим во мраке небесном. Сапфиры, бериллы, изумруды, рассеянные божественным случаем в гранитах, гнейсах и слюдяных сланцах, рубины, подобные впитавшимся в изве стковые отложения каплям крови, алмазы, чья непорочная чистота вела свое происхождение из тёмного рода угля — как будто чудом божьим обеленные черти превратились в ангелов,— а вместе с ними и от них происходящее множество звучащих стариною названий,— все эти создания причудливой алхимии скал прилепились к мыслям человека, дабы формой своей или строением подражать формам извечным. В перстне, в ожерелье, в диадеме был заключен целый мир, вечный круговорот, вселенная, а бесконечность воплощалась в змее, держащей в пасти свой хвост,— набедренная повязка колдунов, жрецов и королей. Из сверкающих этих слогов веками складывалось особое Священное писание, чьи идеограммы выражали деяния богов, заклинания, жизнь и смерть, и самый обычный кулон — ныне совершенно мирный, ибо забывший о своей генеалогии,— восходит к временам, когда первый человек вешал на шею зубы убитых животных.
В Лондоне на Олд-Бонд-стрит или на Риджент-стрит, в Париже на Рю-де-ла-Пэ Оскар часами разглядывал витрины ювелиров, и столь сильно было его влечение, что уходил он всегда с чувством обретенного богатства. О драгоценностях он писал и говорил так, будто перед глазами у него стояли полные самоцветов раскрытые ларцы. В воображении своем он владел сокровищницей, содержащей такие вещи, каких не сыщешь у ювелиров,— сапфиры, некогда бывшие глазами статуй, рубины из амулетов с ядом, жемчужины с кубков Клеопатры, алмазы с мечей крестоносцев. Куда бы он ни приезжал — в Англии, в Италии, в Греции, во Франции,— он не пропускал ни одной сокровищницы, если надеялся увидеть там златотканые ризы, раки, венцы, скипетры, перстни с печатями — магические доспехи силы и славы, в которых многие века сражались во имя бога или людей. Он добирался даже до частных собраний, заводил знакомство с владельцами небольших коллекций или торговцами древностями, которые хранили в далеко запрятанных ларчиках, в закоулках огражденных решетками чуланов горсть потемневших драгоценностей, и постепенно приобрел богатства несметные, неподвластные времени и уничтожению. Ими он распоряжался не таясь, но увлеченно рассыпая их во всех своих стихах, расточая в беседах. Он не мог без волнения прикоснуться к крупинке золота, к драгоценному камню — под пальцами своими он сразу как бы чувствовал ток крови человеческой, которая когда-то на них проливалась. Эти немые, блестящие вещицы могли ведь иметь свою историю, славную, удивительную, трагическую. Странствия драгоценностей столь же неизвестны, как странствия волн морских. В невзрачном жемчужном колье могли ведь оказаться перлы с герцогской шляпы Карла Смелого, а в броши на чьей-то груди — Неронов изумруд, бог весть когда найденный и передаваемый из поколения в поколение теми же безымянными руками, что добывают самоцветы из земли, из моря, из старых могил, из развалин,— словом, из постоянно открытых ладоней случая.