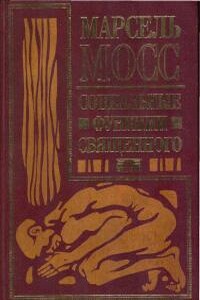Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии | страница 84
Более простые обряды, плачи и песнопения, на которых мы сейчас остановимся несколько дольше, носят не настолько публичный и социальный характер. Однако все же им не хватает индивидуальности в выражении чувства, которое испытывают сугубо индивидуально. Вопрос об их спонтанности уже настолько давно решен наблюдателями, что это даже стало почти этнографическим клише[396]. Они неистощимы в рассказах о том, как посреди обычных занятий, банальных разговоров вдруг в точно установленные часы или дни или в строго определенных обстоятельствах группа, особенно состоящая из женщин, начинает выть, кричать, петь, поносить врага и злого духа, заклинать душу умершего. И затем, после этого взрыва тоски и гнева, все селение, кроме, может быть, нескольких специально назначенных носителей траура, возвращается к обычному ходу своей жизни.
Прежде всего эти плачи и песнопения исполняются в группе. Как правило, их издают не индивиды каждый сам по себе, а селение. Можно привести бесчисленное множество таких фактов. Возьмем один из них, получивший распространение вследствие самой своей регулярности. «Крик за умершего» — очень распространенный обычай на юго-востоке Квинсленда. Он длится так же долго, как и время между первыми и вторыми похоронами*. Ему отведены точные часы и периоды. В течение примерно десяти минут на восходе и закате солнца любое селение, в котором есть покойник, плакало, завывало и причитало[397][398]. В этих племенах при встрече различных поселений существовало даже настоящее соревнование в плачах и слезах, которое могло охватывать значительные массы людей во время больших собраний, сбора орехов (буньа) или инициаций11.
Но точно определяются не только время и условия коллективного выражения чувств, но также и те действующие лица, которые их выражают. Последние завывают и кричат не только, чтобы передать свой страх, гнев или печаль, но и потому, что они уполномочены, обязаны это делать. Характерно, что это никоим образом не связано с фактическим родством, в нашем понимании очень близким, например отца и сына;