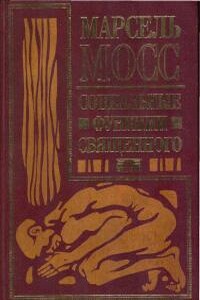Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии | страница 39
Если мы обратимся к наименее развитым среди известных нам обществ, к тем, которые немцы обозначают несколько расплывчатым термином Naturvölker [естественные народы]*, то мы обнаружим еще большую мешанину в мыслях[155]. Здесь сам индивид утрачивает свою личность. Между ним и его внешней душой, между ним и его тотемом — полная неразличимость. Его личность и личность его fellow-animal [родственного животного] составляют единое целое[156][157]. Отождествление настолько велико, что человек приобретает свойства вещи или животного, с которым он таким образом сближается. Например, на острове Мабуяг люди из клана крокодила слывут обладателями крокодильего нрава: они горды, жестоки, всегда готовы к бокУ1. У некоторых сиу существует часть племени, называемая красной, включающая кланы пумы, бизона, лося — животных, отличающихся необузданными инстинктами; члены этих кланов от рождения — люди войны, тогда как земледельцы, люди, естественно, мирные, принадлежат к кланам, чьи тотемы — преимущественно мирные животные[158].
Если так происходит с людьми, то тем более так обстоит дело с вещами. Между знаком и объектом, именем и личностью, местностями и жителями не только полностью отсутствует различение, но, согласно очень верному замечанию фон ден Штайнена по поводу бакаири[159] и бороро, «принцип generatio aequivoca [двойственного происхождения] для первобытного человека считается доказанным»[160]. Бороро искренне считает себя лично длиннохвостым попугаем; по крайней мере, если он и должен принимать его характерную форму только после смерти, то в этой жизни он по отношению к животному является тем же, что гусеница — по отношению к бабочке. Трумаи всерьез воспринимают себя как водяных животных. «У индейца отсутствует наше определение родов по отношению друг к другу, так, чтобы один не смешивался с другим»[161]. Животные, люди, неодушевленные объекты первоначально почти всегда воспринимались как поддерживающие между собой отношения самого полного тождества. Отношения между черной коровой и дождем, белой или рыжей лошадью и солнцем являются характерными чертами индоевропейской традиции[162], и число примеров можно было бы увеличивать до бесконечности.
Впрочем, это состояние мышления не очень ощутимо отличается от того, какое еще теперь в каждом поколении служит отправной точкой индивидуального развития. Сознание в этом случае есть не что иное, как непрерывный поток представлений, погружающихся друг в друга, а когда различия начинают появляться, они очень фрагментарны. Вот это находится справа, а это — слева, это — в прошлом, а это — в настоящем, это похоже на то, это сопровождало то — вот приблизительно все, что мог бы породить даже ум взрослого человека, если бы воспитание не привило ему способы мышления, которые он никогда бы не мог установить своими собственными силами и которые представляют собой плод всего исторического развития. Мы видим значительную дистанцию, существующую между этими рудиментарными различениями и группировками и тем, что составляет настоящую классификацию.