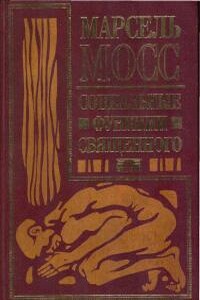Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии | страница 33
В противовес формалистам субстантивисты подчеркивают, во-первых, глубокую специфику экономики в первобытных и архаических обществах, ее отличие от капиталистической рыночной экономики; во-вторых, теснейшую связь, слияние в этих обществах экономических и внеэкономических (религиозных, магических, родственных и т. д.) институтов. Это наиболее важные и дорогие для Мосса идеи, на которых в известном смысле базируется вся его концепция обмена в форме дара.
Еще одну развернутую интерпретацию обмена в рамках субстан- тивизма осуществил М. Салинз, отчасти следуя за Моссом, отчасти же пересматривая его утверждения[142]. Салинз утверждает, что обязанность давать существует между кровными родственниками, но обязанность брать и особенно возмещать гораздо менее определенна, и компенсация не обязательна («обобщенная взаимность»). Согласно Салинзу, обмен между посторонними часто носит недоброжелательный характер, что выражается в придирках, кражах и т. д., поэтому обмен является несбалансированным («негативная взаимность»). Наконец, между теми, чьи отношения являются промежуточными между родственными и враждебными, имеет место «сбалансированная взаимность». В определенный момент времени обмен может быть несбалансированным, но в больших временных интервалах он носит сбалансированный характер.
В экономической антропологии имеют место попытки синтеза теории товаров, развитой в классической политической экономии, прежде всего у К. Маркса, и теории даров, развитой, в частности, Моссом. На материале исследований, проведенных среди обитателей Папуа — Новой Гвинеи, такую попытку предпринял английский ученый К. Грегори[143].
На африканском материале, не затронутом в «Опыте о даре», место даров в обмене исследовалось во французской экономической антропологии Клодом Мейассу[144].
Разумеется, нельзя считать, что все положения «Опыта о даре» впоследствии целиком принимались исследователями. Ряд утверждений и выводов Мосса подвергались и подвергаются критике, причем и теми учеными, которые в целом разделяют его позиции. Так, Леви-Стросс, разделяя основополагающие принципы своего предшественника, в то же время подчеркивает два основных изъяна в его анализе дарения: во-первых, встречающееся местами отождествление объяснения этнолога с объяснением аборигена, во-вторых, несмотря на провозглашаемую ориентацию на целое, элементаристский подход к дару, расчлененному на отдельные акты (давать, брать, возмещать), вместо анализа системы обмена в целом