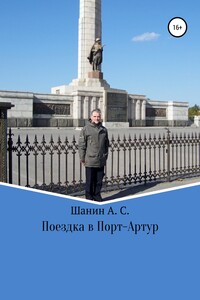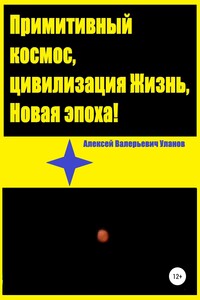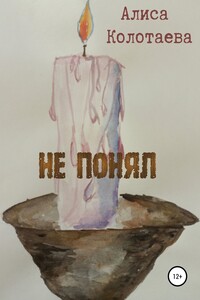Ученые досуги Наф-Нафа | страница 63
«Мы» и «Я» — становятся разными категориями, и совесть расщепляется превращаясь в «коллективную» и «личную». Человек может ужаснуться: «неужели мы такие!» при этом не думая: «и я такой». Индивид готов нести коллективную моральную ответственность, но никак не личную. Последняя — только через суд, только за лично совершенные проступки. Он подпишется под коллективным покаянием, но никогда — под личным ибо это есть нарушение не только личных прав, но правил игры в обществе: «презумпция личной невиновности». Позволяя «невинно» обвинить себя индивид нарушает всеобщий закон справедливости. Во всяком случае так думает большинство членов общества, потому готовы глотку перегрызть отстаивая личные права, поскольку этим «борются за права других».
С другой стороны тотальное искажение действительности ведет к тотальным просчетам общества. Система взаиморасчета рушится, приобретая стохастичность, даже хаотичность. Всеобщий расчет ведет к хаосу. Периодически возникающие кризисы — не только и не столько кризисы износа основного оборудования, не столько кризисы неплатежей, накопившегося кома взаимных вексельных обязательств или «перегрева» биржи.
В деиндустриализированных странах современного «информационного общества» кризисы возникаю примерно с той же периодичностью, что и при Рикардо, и при Марксе, и при Кейнсе. Маркс выводил периодичность кризисов из перенакопления капитала, вызванного необходимостью смены устаревших средств производства. Однако уже с середины ХХ века станочный парк, как правило, окупается в первый год-полтора и служит не более пяти-семи — прогресс! Однако период наступления кризисов остался «верен» десятилетнему периоду.
Периодичность экономических кризисов есть периодичность кризисов доверия. Рынок схлопывается: ранее котируемые акции преуспевающих компаний неожиданно превращаются в туалетную бумагу финансовых пирамид, тонкая биржевая игра вдруг обнажает свою сущность детской забавы «веришь — не веришь». В низовой ячейке дело представляется отношением двух субъектов: «я верю что ты мне отдашь — я уверяю что верну». Однако каждый из субъектов входит в такие же отношения с третьим лицом. Дело в том, что в действительности и кредитор, и заемщик говорят друг другу: «я верю что… с вероятностью 99 или 90 процентов». Проценты вероятности «неудачи» означают «если…», обычно означающие «если мне отдаст третий». При таком рассмотрении проценты представляются «платой за риск» и плюсуются в сумму кредита. Разумеется, данная схема не учитывает реальная экономическая модель функционирования ссудного капитала по законам рынка: спрос и предложение на ссудный капитал, поскольку она очень близка к «психологической» модели.