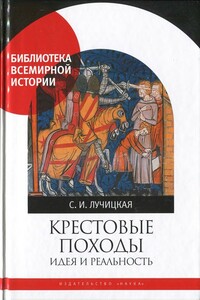Образ Другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов | страница 14
Но как сопоставлять текст и «разделяемое» обществом знание? Адресат находится как бы внутри самого текста. Характер этого знания имплицитный, так как в силу него адресат «просчитывает» смысл высказывания и то, в силу чего рассказчик (адресант) сформулировал подобное высказывание, именно для того чтобы и адресат сделал бы такой расчет.[44] Интерпретируя Другого в терминах этого общего для читателя и автора знания о мире, средневековый текст предстает перед нами как зашифрованное послание. Но если современный этнолог может поставить эксперимент и расшифровать этот код, то историк такой возможности лишен. Как же мы можем выявить эти символические знания о мире — то, что для хрониста является само собой разумеющимся? Эти общие представления о мире имели, конечно же, имплицитный характер, они неявны, но иногда в текстах хроник есть прямые ссылки автора на него, автор проговаривается, — так, иногда он дает объяснение отсутствия привычных реалий или поражается тому, что у мусульман так же, «как и у нас».[45] Эти ссылки можно сравнить с так называемыми «метками» (notation), по выражению Р. Барта, — т. е. незначительными деталями повествования, часто противостоящими сюжету, но создающими «эффект реальности».[46] Все эти речевые высказывания отсылают к значимой для средневековой аудитории традиции, имплицитно присутствующей в тексте. Именно традиция связывает хрониста с тем, о чем он рассказывает, — интерпретатора с тем, что следует интерпретировать (interpretandum).