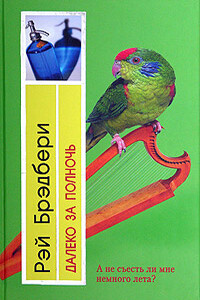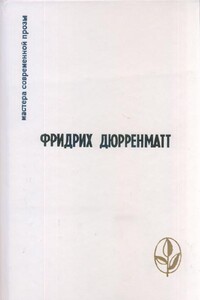Пьяное лето | страница 97
Лермонтов, при всей бесконечной мрачности и юношеской болезненности души, а также разочарованности (больше модной, литературной: Байрон, Мюссе и т. д.) вложил в душу своему главному герою то, что я называю «талантливой гадиной».
С безумной улыбкой и с каким-то мазохистическим наслаждением смеяться над попавшей тебе во власть жертвой (сначала влюбить в себя, а потом унизить и презреть), понимая, что никогда, никогда не воплотятся твои мечты о прекрасной на земле жизни и о прекрасной женщине. Да, тут еще неприкрытая юношеская поза шекспировского героя, тут еще Офелия, тут еще «три месяца несносившая сапог» королева, тут еще картинно ходящий по сцене принц датский, и еще ты, Меркуцио, неоцененный любовью ребенок, стареющий двойник Яго и Отелло… О, стоит молодому неудовлетворенному честолюбием и красотой юноше презреть этот мир и живущих на нем людских особей… Вот только зачем же презирать детскую невинность наивных душ?..
Русский писатель девятнадцатого и начала двадцатого века часто был несчастлив в любви к женщине. Вот откуда этот леденящий душу трагизм (Блок, Бунин). Да и у Пушкина и Лермонтова – было «не слаще». Уже тогда можно было услышать треск империи. Ибо, когда женщины изменяют своим мужьям или любимым, перестают отличать внутренние достоинства от внешнего блеска, империи разваливаются, рушатся на куски – слышен плач попавших под эти их обломки народов.
Девяностые годы
Восхождение в горы
Собрался я как-то в юности своей с друзьями-приятелями в горы. Горы – что? Горы есть большие, есть малые и крутые, есть просто пологие… А эти так себе, ни то ни се: и пологие, и крутые… Такие горы, какие на нашем самом южном Юге бывают… Сначала зеленые подножья, потом черные или серые (каменистые), и только потом уже снега, и то не на всех и не всегда, а так – по зиме там, по осени или по весне… Ну и, разумеется, – распадки и трещины, и скалы, величественные такие скалы… И стоят, и смотрят, и смотрят в полуденное небо… А над ними орел. Полуденное небо, горы и орел… Ибо какие же горы без полуденного неба и орла… или, скажем, какие же горы без дымки?..
А небо, надо сказать, было ясное, чистое, и горы были в дымке, и чистота, и ясность, и воздух прозрачный, и солнце только что поднялось, и прохлада, утренняя прохлада – и тени в распадках, синие такие тени.
А главное – хребты; один, два, три видимых хребта; главное – вершины гор и белые, и голубые снега.
Надо сказать, что внизу у подножья гор начиналась долина, зеленая долина, вместе с голубым и розовым: чистейший оазис из цветущих садов и деревьев… Ну, и птицы там разные щебетали… Ну, и ручьи, и реки… И квадраты улиц и шиферных крыш, на которых сидели дети. Впрочем, они сидели больше на деревьях, ибо таково свойство детей – сидеть чаще на деревьях, не то, что их отцы и деды – эти вечно идущие по улицам отцы и деды – разумеется, на работу и, разумеется, на базар… А что касается поля, то в поле, по обычаю, работали женщины – их разноцветные платки были особенно заметны на свежей зелени – они нам впоследствии были хорошо видны с гор, когда мы останавливались, чтобы передохнуть и посмотреть в долину..