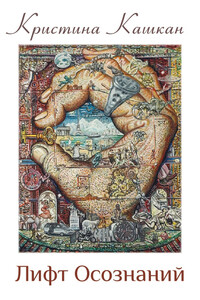Пьяное лето | страница 68
«Наш город, – рассуждали мы, – это город Пушкина, с его видом заметеленных мелким снегом мостовых, с запахом утренних булочных и кондитерских, город Невского проспекта и Евгения Онегина. По крайней мере, он дышит теплом и морозом, и заботой о тарелке щей, о кулебяке и чашке китайского или индийского чая. Он, наконец, город гоголевский и некрасовский, с бегущим по Миллионной в чиновничьей шинели господином без носа и господином просто с носом белым от мороза («поскорее же трите, трите… свой нос»)… Он еще полон здоровой деятельности, этот город, в нем еще не было этой стылости на перекрестках и бегущей пьяной толпы работного люда с вульгарными гримасами и лицами, что явилась в этот город с Достоевским и разночинцами, а позднее и с Блоком – одним из красивейших демонов русской литературы, – который шествовал рядом с когортой больших и малых бесов, создателей недотыкомок, ползущих по стенам мокриц, а еще и каких-то шутов в домино и масках – существ неизвестного пола и неизвестной родины, которыми и наполнен был предреволюционный Петербург.
«Сологуб, Белый, Кузмин, Бальмонт, – говорил мой приятель, – какие изысканные, утонченные бесы, какие сладострастные упыри, желающие постоянно приподнимать себя на котурнах (не случайно Бальмонт любил приподниматься на каблуках). Бесу всегда хочется полюбоваться перед толпой, возвышаясь на копытах, как и хочется переодеться в женщину – быть двуполым. Его артистическая сущность говорит об извращении не столько тела, сколько души, особенно во времена декаданса и тогда, когда развращенная чернь – девка-демократия – высыпала на стадионы и улицы в преддверии чумы или фашизма…»
«Греческий гермафродит гораздо здоровее, чем наш – северный, петербургский, – говорил мой приятель, – как еврей-одессит куда как жизнерадостнее и подвижнее нашего мрачного, часто унылого и, надо думать, раздраженного, питерского еврея…»
Таков он был, город, до семнадцатого года, а после семнадцатого вышел (литературно) из белых болотных ночей, из серых революционных будней в солнечное утро и закраснел знаменами, плакатами, транспарантами, демонстрациями, запестрел улицами, пахнущими пивной и парикмахерской, кренделями и напомаженными усами, кухонными примусами и плитами. А потом уж загремел трамваями, троллейбусными шинами, запыхтел фордами и зисами, замелькал кожанками следователей и чекистов, вычищающих кровь из-под черных ногтей. Город Маяковского и Добычина, город Филонова и Петрова-Водкина, обэриутов и Анны Ахматовой; его стон, кажется, был приглушен, пахло треской и солеными огурцами, продаваемыми на улицах из бочек, рыдание было где-то за красными кирпичными стенами и «каменными плитами», и белые ночи располагали к гулянью, но город как-то приопустел, то ли съехал в Москву, то ли притих в ожидании войны и блокады, но вот уже заснежило, замело лыжной финской «компанией» и где-то в седом и морозном утре уже мнился – виделся чей-то бледный женский лик, то ли в гробу, то ли в заклеенном крест на крест окне…