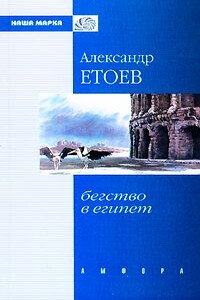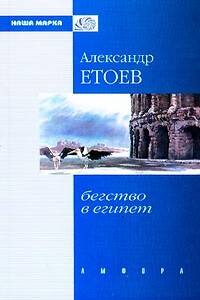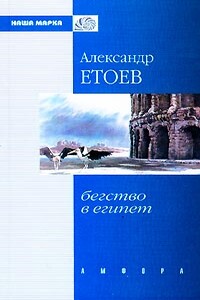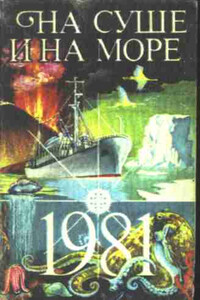Парикмахерские ребята | страница 98
— Зачем? Я не хочу прятаться за щит.
— Бери, бери. На войне прятаться — закон. У тебя просто укрытие будет понадежнее.
— Но это же чушь. Что ты говоришь, господи, какой талисман…
Он улыбнулся, мама, не мне улыбнулся, а опять куда-то туда, сквозь.
Будто что-то такое знал.
Ты помнишь эту штуку? Ты, может быть, еженощно касалась ее. Или отец снимал ее перед сном? Она сейчас на мне, и я ее не снимаю.
Здравствуй, мама.
Сейчас мы в гарнизоне, и кругом кажется тихо, кажется, нет никакой войны. И мои солдаты сейчас трудятся, согласно нашим газетам: строят казарму, склады, красят, метут, поливают. Темными вечерами звенят цикады, плачут шакалы. Живет своей жизнью пустыня, которой нет до нас дела. К кишлаку гонят негромко мекающих овец. А я здесь завел себе кошку, почти котенка. Подобрал ее в пустом, разрушенном доме. Кошка ласковая, ловко путается под ногами, потираясь спинкой. Когда сижу, все норовит прыгнуть на колени, чтобы ее гладили. Ночью спит у меня в ногах, урча по-домашнему. Только нечасто мне доводится ночью поспать.
Помнишь, какая у нас была пушистая сибирская кошка? Давно, там, в детстве, на даче. Как она переживала ту драму, когда отец забрал и утопил всех новорожденных котят. Почему считается, что драмы только у людей? Почему мы на себя взяли груз чужих прав? Я видел, как тосковала, страдала ограбленная кошка. А на другой день она давала отцу гладить себя и мурлыкала. Почему же она не расцарапала ему лицо? Отцу все сходило с рук.
Только помню еще, что когда на пляже он, партийный, стыдливо снимал и прятал свою медную бляшку, то не рисковал заплывать далеко. А я-то думал…
Мама, я ловлю себя на мысли, что мне хочется вспоминать о нем только плохое. Оттого, что мне самому плохо, — когда назло, когда злишься, хорошо не бывает. Не бывает хорошей расплаты за чужую вину. А это так, этот Афганистан я выбрал сам расплатиться за вину отца и — никакого удовлетворения ни мне, ни моей обреченной роте. А я не хочу так, я хочу, чтобы вся моя рота выжила и пострадать сполна мне одному. И боюсь, боюсь, гладя на груди этот дьявольский амулет. Не пожелал бы своему сыну, будь он у меня, не пожелал бы ему такой удобной и такой тяжелой кары — ненаказуемости.
Я теперь понимаю, как тяжело было отцу. Ведь он был умный, он ведал, что творил, когда его химкомбинат превратил Новомосковск в отхожую яму. Он ведал и когда перешел в министерство, чего стоили его циркуляры, его борьба за план. И бежал, прикрываясь щитом от расплаты, по служебным лестницам вверх. Отец делал карьеру из страха.