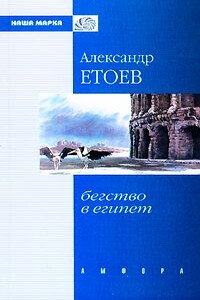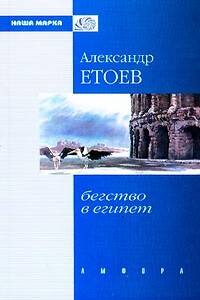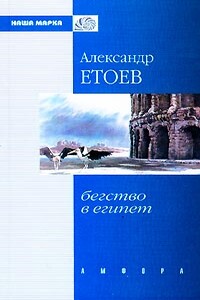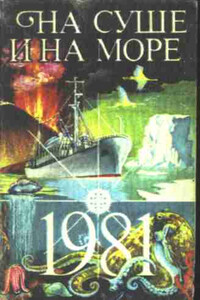Парикмахерские ребята | страница 95
Я обернулся. Неизвестный солдат слипся с клейкой уличной темнотой и был едва различим. Смертельная точка танкового ствола вообще исчезла в тумане. Я погрозил кулаком в неясный ком позади. Потом сказал тихо: «До встречи». Маришка меня услышала, но ничего не сказала. Наверное, думает, глупая, что я на нее в обиде.
— Ну что, Маришка, поздно уже. Веди меня к вашей маме. Мне очень надо с ней познакомиться. Очень…
Павел Кузьменко
Ахилл
На зеленом, еще не очень вытоптанном холме близ моря сооружали погребальный костер из целых кипарисовых стволов. По углам ставили расписные амфоры с вином и маслом. У жертвенника резали быков, коней и баранов. Великие вожди Агамемнон, Одиссей, Менелай и Аякс возлагали на последнее ложе мертвого Ахилла, непобедимейшего из героев. Плач и стенания разносились от моря до стана ахейцев.
У подножия холма стоял слепой Аэд и настраивал кифару, чтобы петь вечером на поминальном пиру и играх славословия могучему сыну Пелея и Фетиды, отныне покойному. Пока же Аэд был один. Прислушиваясь к доносимым ветром плачу женщин и хитроумной речи Одиссея на гражданской панихиде, он бормотал:
— Будь ты проклят, великий герой Ахилл. Нес ты горе троянцам и радость ахейцам, фиванцам, спартанцам и мирмидонянам. Но что ты нес грядущему человеку? Копятся по капле преступления и грехи, и некому искупить их, кроме нас и наших детей. Тогда шлют боги в наказание людям войну. И пить кровь из ее чаши нам и молчать, покуда не высохнет и не очистится чаша преступлений наших. Но ты кричишь, Ахилл: «Мщение!» И тысячи оболваненных тобой вторят: «Как он прав!» Презрен Парис, мелкая душонка. Но еще больше презренна твоя неуязвимая, всесокрушающая, единственно верная, вечно живая правота, Ахилл…
Здравствуй, мама.
Это безумная жара. До жгучей, пыльной поверхности бэтээра невозможно дотронуться. Но надо ехать сверху. Глаза слипаются, но надо смотреть. Мозги плавятся и, кажется, стекают вниз по обгоревшей коже, но надо помнить, что надо делать. И я чувствую, что не автомат болтается на груди, а я сам подвешен, как надежная безотказная вещь, и ничего со мной не случится, когда безотказному мне будет приказано стрелять, прыгать, прятаться, ползти. Эта трясущаяся в такт рессорам, в такт каменистой дороге вещь будет отдавать приказы моей живой роте, и ничего с ней, с вещью, не случится. Мама, я уже знаю, что со мной ничего страшного не случится.
Остановка. Мертвый кишлак. Я пишу в слабой тени гранатового дерева, и руки еще дрожат от проклятой тряски. Ты чувствуешь это по почерку? Еще стоит рядом проклятая пыль, которой я дышу. Ты чувствуешь пыль на бумаге? Она стекает вместе с потом вниз под китель, под бронежилет. Там уже и так не пробиваемый пулями панцирь из грязи. Я задыхаюсь, я бешусь под ним и не имею сил даже почесаться.