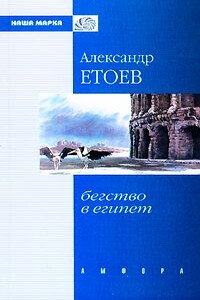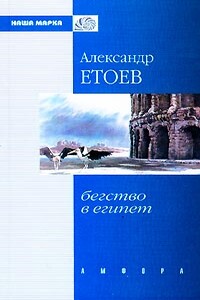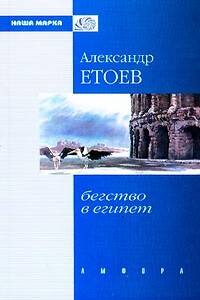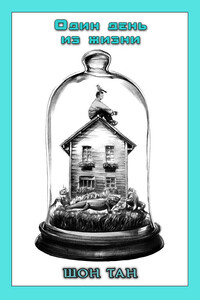Парикмахерские ребята | страница 42
— Новая модель диагностера? — спросила Маринка. — Или модернизированный вариант портативного исцелителя ушибов?
— Нет. Я хочу написать повесть. И знаешь, как она будет называться? «Поэма о счастье».
— Отлично. А потом ты напиши поэму, — посоветовала Маринка. — И знаешь, как ее назови? «Повесть о счастье».
— Ты не веришь, — улыбнулся Геннадий; — ты не веришь, что я могу написать повесть.
— Конечно, не верю. Ты умеешь писать только научные тексты.
— Я теперь все умею. Понимаешь, Маришка, все.
Она вдруг задумалась. Потом посмотрела на него и спросила:
— Ген, крокодильчик мой, а если я буду играть, я тебе не помешаю?
— Нисколько. Даже наоборот.
Она ушла в другую комнату, и вскоре оттуда послышалась приятная тихая музыка. Маринка и раньше умела что-то бренчать на рояле, родители в детстве научили, точнее, заставили научиться, но так, как сейчас, она не играла никогда. Это была настоящая импровизация большого мастера. Музыка прерывалась, начиналась вновь уже немного по-другому, опять прерывалась и с каждым разом становилась все совершеннее, все прекрасней.
Он сидел в кресле, смотрел на причудливые очертания микропогодной установки на крыше далекого дома и думал, с чего начать, какие слова уложить первыми на такой белоснежно чистой, такой беззащитной поверхности бумаги.
И вдруг мир раскололся.
Пополам. Дико. Безжалостно. Страшно.
Он хотел зажмуриться, но глаза мучительно широко раскрылись, а веки свело судорогой, так что он даже не мог моргнуть.
Под отвратительный хруст и скрип возникшая перед глазами черная трещина, бездонная и жуткая, превратилась в гигантский проем, и две половинки только что существовавшего мира стали ужасающе медленно падать. Они не выдерживали собственной тяжести и обваливались кусками, а потом вдруг обмякли и потекли, срываясь большими грязными каплями и мерзко плюхаясь в бурлящую где-то глубоко внизу жижу.
И он закричал от страха, отчаяния и боли. Но крик потонул в жуткой какофонии звуков, растворился в ней, и только слышнее сделалось гнусное бульканье и хлюпанье, доносившееся теперь уже со всех сторон.
Потом звуки стихли постепенно, и Геннадий подумал, что это смерть.
Вот он какой, оказывается, «тот свет» — пустая зловонная тьма, и тишина, и холод, и боль, пронизывающая насквозь.
Он сидел и прислушивался к себе. Сидел… Сидел ли? Он просто помнил, что садился в кресло, а теперь сидящим он себя не чувствовал. Он вообще не чувствовал своего тела. Кошмарнейшее ощущение: есть боль, но нету тела, есть холод во всех конечностях, но нет конечностей, есть непрекращающаяся дрожь, но нет ни кожи, ни мышц. И еще — тошнота. Большая, ни к чему не привязанная тошнота.