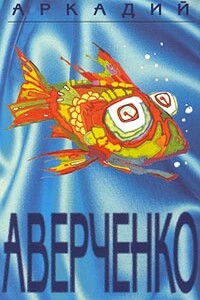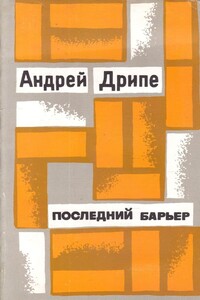Том 2. Зайчики на стене | страница 36
— Прощайте, господин. Не поминайте лихом — нету здесь нашей вины ни в чем!..
— Вы серьезно писали эту рецензию? — спросил меня редактор, прочтя исписанные листки.
— Конечно. Все, что я мог написать.
— Какой вздор! Разве так можно трактовать произведения искусства? Будто вы о крашеных полах пишете или о новом рисуночке ситца в мануфактурном магазине… Разве можно, говоря о картине, указать на какой — то кармин и потом сразу начать расхваливать вентиляцию и отопление той комнаты, где висит картина… Разве можно бессмысленно, бесцельно восхищаться какими — то голубыми квадратиками, не указывая — что это за квадратики? Для какой они цели? Нельзя так, голубчик!.. Придется послать кого — нибудь другого.
При нашем разговоре с редактором присутствовал неизвестный молодой человек, с цилиндром на коленях и громадной хризантемой в петлице сюртука. Кажется, он принес стихи.
— Это по поводу выставки «Ихневмона»? — спросил он. — Это трудно — написать о выставке «Ихневмона». Я могу написать о выставке «Ихневмона».
— Пожалуйста! — криво улыбнулся я. — Поезжайте. Вот вам редакционный билет.
— Да мне и не нужно никакого билета. Я тут у вас сейчас и напишу. Дайте — ка мне вашу рецензию… Она, правда, никуда не годится, но в ней есть одно высокое качество — перечислено несколько имен. Это все, что мне нужно. Благодарю вас.
Он сел за стол и стал писать быстро — быстро.
— Ну вот, готово. Слушайте: «Выставка Ихневмон». В ироническом городе давно уже молятся только старушечья привычка да художественное суеверие, которое жмурится за версту от пропасти. Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошел к головокружительной бездне возможностей и заглянул в нее. Что такое его хитро — манерный, ускользающе — дающийся, жуткий своей примитивностью «Весенний листопад»? Стулов ушел от Гогена, но его не манит и Зулоага. Ему больше по сердцу мягкий серебристый Манэ, но он не служит и ему литургии. Стулов одиноко говорит свое тихое, полузабытое слово: «Жизнь».
«Заинтересовывает Булюбеев… Он всегда берет высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его, погашенные размеренностью общего темпа, становятся приемлемыми и милыми. В Булю— бееве не чувствуется тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервные порывистые Моавитов и Колыбянский. Моавитов, правда, еще притаился, еще выжидает, но Колыбянский уже хочет развернуться, он уже пугает возможностью возрождения культа Биллитис, в ее первоначальном цветении».