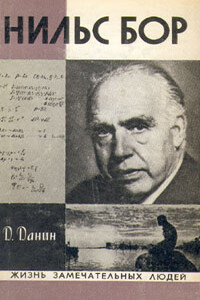Неизбежность странного мира | страница 44
А различие между этими двумя картинами громадно. Порывы ветра — воздушные волны — приносят непрерывный поток энергии. Он то гуще, то разреженней, но он непрерывен и «размазан» по всему пространству, захваченному волной. Поток энергии в падающем граде прерывист, разбит на отдельные порции, собран в «кулачки», а не «размазан». Каждая градинка приносит свою долю — свой целый квант. Если все градинки падают с одинаковой скоростью, энергия каждой зависит только от ее массы: чем массивней градина, тем энергичней она, тем с большей легкостью отлетает зернышко от колоса под ее ударом.
Вот пронесся над полем ветерок и затих. Он сумел повернуть крылья мельницы на пол-оборота. Вот пронесся слабенький град и перестал. Под его ударами крылья мельницы повернулись тоже на пол-оборота. Поток энергии ветерка и поток энергии града были одинаковыми. Однако посмотрите на поле: там, где пронесся ветерок, все колосья шевельнулись, но ни один не осыпался — у слабой «размазанной» воздушной волны не хватило сил оторвать зерна. А там, где выпал град, хоть и был он тоже слабенький, зерна в разных местах усеяли землю — это зависело от меткости градинок. Зато в других местах, куда крупицы небесного льда вовсе не попали, колосья остались совершенно неподвижными.
Как не схожи между собой эти две картины! А ведь общая энергия ветерка и града была одной и той же. Стало быть, результат зависел как бы от «внутреннего строения» потока энергии, а не только от его общей величины.
Так вот, если атомы вещества — колосья, а электроны в атомах — зерна в колосьях, то с чем сравнить падающий и поглощаемый при этом свет — с налетевшими волнами ветра или с выпавшим градом? Какое сравнение справедливей? Очевидно, надо присмотреться к судьбе, постигшей зерна — электроны.
Факты накапливаются в науке непрерывно. Задолго до Эйнштейна перед беспристрастными экспериментаторами открылась картина, которую никак нельзя было объяснить набеганием непрерывных волн энергии. Один из необъяснимых фактов выглядел особенно странно: даже самый слабый свет выбивал электроны с поверхности металла. Правда, освобожденных электронов появлялось при этом мало, но все-таки они появлялись: вызванный светом фототок едва-едва отклонял стрелки приборов, но все-таки отклонял… А ведь для ионизации любого атома — для полного разрыва связи электрона с ядром — нужна, как мы уже знаем, определенная конечная энергия, другими словами — нужен минимум энергии, ниже которого дело не пойдет! Так у волн ветерка, если он уж очень слаб, может и не хватить силенок осыпать колос. Между тем даже у самого слабого, самого неяркого потока света силенок на это всегда хватало. В чем же тут было дело?