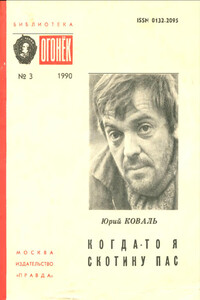Таврические дни | страница 49
Штабс-капитан Филиппов от старости был мешковат.
Войдя, он воровато и даже как будто с испугом оглядел Анджиевского своими мелкими, добродушными, доверчиво-ясными глазами. У него была голова в виде пенька, с необыкновенно плоским теменем, лоб и темя сходились почти под прямым углом. Волос на этом четырехугольном черепе не было, и кожа, обтянувшая его, желтая, как сурепка, пошла пятнами лилового цвета. Также не было волос ни на щеках, ни на подбородке капитана Филиппова. Высоко приподнятые, вывернутые наружу ноздри были розовы и нежны.
Войдя, он осторожно прикрыл за собой дверь, старчески медленно повернулся к Анджиевскому и сказал поблекшим, но еще приятным тенорком:
— Чем это вы пригрозили штабс-капитану Щербацкому? Ай как нехорошо! В вашем положении, голубчик, это очень неосмотрительно.
Анджиевский не ответил. Филиппов сел, белыми руками погладил колени. Испарина так обильно покрыла его, что, казалось, капитан дымился. Он ласково поглядел Анджиевскому в глаза, потрогал его кандалы, осведомился: «Очень, я думаю, тяжелы?» Покачал вспотевшей головой. Все говорило в нем: «Вот какой я домашний, миролюбивый, симпатичный человек! Какое это несчастье носить погоны в столь шумное время!»
Вскоре ему стало жарко, он снял защитную куртку и ловко, по-юнкерски сложил ее на столе, подумал и сказал:
— Духота, голубчик. Азия! Мне с вами тут целый час сидеть. А сниму-ка я и рубаху!
Он снял рубаху, обнажив пухлые желтые плечи, грудь с черными сосками и раздутый, гладкий, как шелк, живот.
— Вы уж не осудите старика, голубчик.
— Оголяйтесь, — усмехнувшись, сказал Анджиевский, — голыми-то вас я давно вижу.
— На то вы и комиссар, — миролюбиво и даже ласково откликнулся капитан Филиппов, похлопывая себя по телу, которое тряслось и плыло под его ладонями. — Раздеваете народ до последней нитки, как же вам после этого голых людей не видеть? — Он благодушно растер ладонями живот, будто сидел в предбаннике. — Я, батюшка мой, неестественную жизнь прожил. Моя профессия — управляющий имениями. Ну, война. На войну — в чине прапорщика. Воевал на турецком фронте — и такой курьез: что ни бой, то имею отличие, хотя доблести никогда не проявлял; я, знаете, ни крови, ни барабанов не люблю. Я с вами откровенно. Сунулся после войны в Москву, к семье. А там — комиссары. Все, что в банке скопил, реквизировано. Жена дома только ночует, а живет в церкви Николы Мокрого, молится о вашем низвержении и умом шатнулась. Дочь, Зинаида, нюхает кокаин, у нее с утра до ночи поэты, они весь дом растащили. Сын — у Деникина. Нехорошо. Вижу, делать мне дома нечего, — и сюда. По дороге, на станции Прохладная, хотели расстрелять, но я дьяконом прикинулся — сумасшедшим дьяконом. Вы, красные, простачки, вам смешно на дьякона — отпустили. Вам как, не скучна моя болтовня?