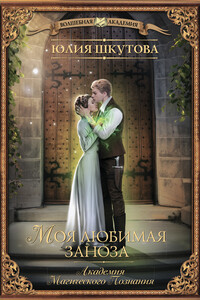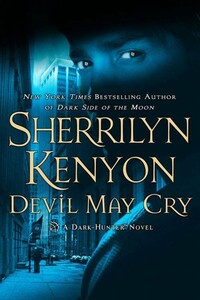Летняя практика | страница 20
— Что ты делаешь? — Любляна замирает на пороге. Простоволоса, боса, в белой рубашке. И вихрь силы накрывает ее.
— Что ты… — Маленка воет, падая на четвереньки, изгибаясь. — Что ты…
— Цыц, твари!
Мать изогнулась.
И упала.
Тело ее, будто объятое призрачным пламенем, сотрясали судороги.
— Останови! — Обе сестры, точнее, уже не они — в фигурах их не осталось ничего человеческого — скребутся, не способные пересечь порог. — Останови это!
Илья и рад был бы, но заклятье разворачивалось и не в силах человеческих было вернуть его.
Он только и мог, что смотреть.
Вот мать замерла.
И сестры, упав на пол, заколотились… Маленка билась затылком о пол, и под головой ее расползалась лужа крови. Любляна вцепилась пальцами в лицо и выла, выла…
А потом стало темно.
И темнота длилась…
Прерывалась скрипом двери.
Звуками шагов.
Холодной ладонью на голове.
— Отойдет ли? — В этом голосе слышалась забота. И он приносил спасительную прохладу.
— Должен. Молодой еще. Повезло… свою кровь…
Кровью в темноте пахло, терпко и сладко, и запах этот вызывал странное желание в него завернуться, словно в пушистую старую шаль.
Кровью и поили.
С ложечки.
Не человеческой, само собой, а бычьей.
— А что девчонки? С ними… как?
— Кто ж знает, матушка. — Второй голос сух и неприятен, колюч. — Магии в них нет. И вообще… А что норов скверный, так у кого из дочек боярских он сахар?
— Ты мне скажи лучше, что с ними делать?
Тишина — звонкая, что зимний лед. И длится она долго, Илья почти успевает очнуться, прикоснуться к этой самой благословенной тишине, когда скрипучий голос вновь ее нарушает.
— Вы знаете, что делать.
— Дети же горькие…
— Может, еще да… А может, уже нет. Божиня не осудит…
— А люди?
— Вам ли людей страшиться? Поймите, оставите их, и что потом? Мы не знаем, удалось ли мальчишке полностью изгнать тварей. А если нет? Если они затаятся? На год? На два? А потом?
Вздох.
И снова тишина. Темнота отступает. Прорезают ее розовые сполохи грядущего рассвета. Белизна потолка. И робкое пламя свечей. Когда Илья открывает глаза — а веки тяжелы, что свинцом запечатаны, — он сначала не видит ничего, кроме этого пламени, которое само по себе прекрасно.
— Здраве будь, племянничек… — Дядя Михаил сидел у постели, в креслице низком. — Выжил-таки.
— Выжил. А…
— И матушка твоя жива. В обители она.
И замолчал.
Стар он стал. Иссох весь. А ведь маг. Маги старятся медленней обычных смертных.
— Она…
В обители. И в какой — не скажут. Илья не ребенок, понимает, что коль ушла от мира, то и от него, Ильи, ушла.