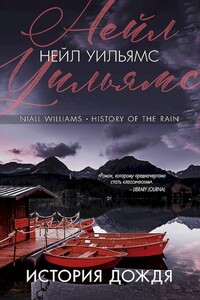Пока тебя не было | страница 114
Ифа переворачивает страницу, понимает, что ее бесят работы этого фотографа, что она с ним как-то встречалась и он высокомерная свинья. Она смотрит на длинную фигуру брата.
– Ты живой? – спрашивает она.
– Мммннную, – отвечает Майкл Фрэнсис или что-то вроде того.
Он уткнулся лицом в лоскутный коврик в комнате, которая когда-то была спальней его сестры. Это, внезапно понимает он, лучшее место на свете из всех, где можно оказаться. Под его телом теплые половицы, ноги спокойно лежат, чуть раскинувшись в стороны, глаза закрыты, щека прижата к затейливому рельефу тканевых узелков. Разве не Моника с мамой связали этот коврик как-то зимой? Вспыхнувшая в памяти картинка – кухонный стол завален лоскутками, мать тянется поверх него – разбивает поверхность его ума, потом размывается и пропадает. Возможно, так и было; возможно, нет.
– Как думаешь, могу я всегда тут лежать? – спрашивает он, и его голос так мило приглушает коврик.
Он слышит, как сестра переворачивает страницу книги – тонкий треск бумаги, потом ее руки разглаживают поверхность.
– Можешь, – отвечает она с интонацией не-смей-мешать-мне-когда-я-читаю, – теоретически. Но через пару дней умрешь от обезвоживания. Может, и меньше, по такой-то жаре.
Он поднимает руку, чтобы заслонить глаза. Он слышит, как кто-то – Моника? – ходит по комнате внизу. По улице проезжает машина. Ифа переворачивает страницу, потом другую. Внизу кто-то стучит заварочным чайником о край раковины.
– Я кое-что сделал, – говорит он.
Его глаза по-прежнему закрыты, а Ифа у него за спиной, но он знает, что она подняла голову. Она откладывает книгу на кровать рядом с собой, он знал, что она так и сделает. Он слышит, как жалобно пружины отзываются на перемену веса.
– Это связано с папой?
– Нет.
– Ладно. Что-то хорошее или что-то плохое?
– Плохое.
Молчание. Кто-то через пару дворов по улице кричит что-то длинное и повелительное про шезлонг, шляпу и что-то еще, чего он не разобрал.
– Что-то про работу? Или что-то про брак?
– Про брак.
– А.
В этом звуке столько мудрости, в нем настолько нет осуждения, что он не может сдержаться, он рассказывает ей все – или так близко ко всему, как только может. Он, например, не решается признаться, что, когда впервые увидел Джину Мэйхью, возникло ощущение, что он узнал ее, словно ждал, чтобы она появилась. Вот и ты, едва не сказал он, что же ты так долго? Или что он никогда не верил в идею любви с первого взгляда. Или что она не была из тех, кто может показаться привлекательным, или его типажа, или кем-то, кто может разрушить брак, или мысли старшего преподавателя истории, мужа, отца, семейного человека. Она была высокой, с длинными конечностями, которыми, казалось, не вполне управляла, и с белой, веснушчатой кожей. Больше всего она напоминала ему жирафа. Рукава ее одежды не доходили до косточек запястья. Ступни были большими, длинными и узкими, и обувала она их в сандалики с ремешком вроде тех, что носят дети. Она носила юбку-брюки и кардиган, вид у которых был такой, словно она сама их вязала, и ободок, удерживавший ее без затей остриженные волосы. Такие наряды, он знал, вызовут насмешки учеников. Он не мог сказать Ифе, что в первый раз, когда пошел искать ее в лаборатории – под каким-то предлогом, потому что на самом деле просто хотел увидеть ее без посторонних, хотел всего лишь взглянуть на нее подальше от задымленной скуки в учительской, – она была в белом халате, слишком коротком для нее, и вышла из-за доски с изображением круговорота углерода. Увидев Майкла, она покраснела, и он подумал: круговорот румянца. Он едва не сказал это вслух. Кровь подступила к поверхности ее лица и шеи, и у него тоже, словно в ответ.