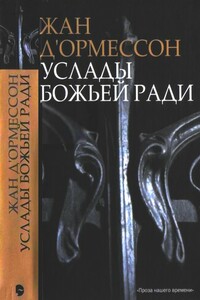Пока тебя не было | страница 112
– Можно я наберу чернил в твою ручку, папа? – спросила она.
Отец оторвался от лежавших перед ним бумаг.
– Можно.
Он достал ей пузырек темно-синих чернил. Quink – было написано на крышке. Quink – говорили кудрявые буквы на стекле. Моника умела откручивать резервуар ручки, окунать в жидкость самый кончик серебряного пера, не больше, а потом тянуть, пока не перестанут появляться пузырьки. И это чудесное ощущение чернил, втягивающихся в ручку, едва слышный сосущий звук. Она слышала, как топает наверху Майкл Фрэнсис; как набирает силу визг Ифы в кухне: «Нетнетнет, я сама!» Но она-то была здесь, стояла, такая хорошенькая, наполняла отцовскую ручку чернилами, вытирала перо начисто своим платком и закручивала колпачок. Не было ничего правильнее, ничто не принесло бы ей большего удовольствия, чем протянуть ручку обратно отцу со словами:
– Вот, папа.
И получить награду – он кладет руку ей на плечо и говорит:
– Ты у меня умница.
Пальцы Моники натыкаются на что-то твердое и холодное, и она вытаскивает ключ из-за карниза, пушистого от пыли, которая осыпает ее хлопьями, когда она спрыгивает со стула. Она отряхивает платье, проклиная материнскую манеру вести хозяйство спустя рукава.
Она еще раз оглядывает комнату, подходит к бюро и вставляет ключ в скважину. Она ни секунды не сомневается в том, что делает. Это ее право. Это единственный разумный поступок.
Отец ушел. Она по-прежнему не может это принять, по-прежнему не может поверить. Он ушел, даже не подумав о ней, бросил ее разбираться со всем, успокаивать Гретту в истерике, встречать толпы родни и брата с сестрой. Он ведь должен был понимать, что это ей, Монике, придется принять на себя основную тяжесть бед, и что, было ему до этого дело? Никакого. Он ушел, удалился, не оглянувшись. Как он мог ждать, что она все бросит и приедет домой, чтобы все это разгребать?
Моника резким движением толкает вверх крышку бюро. Она складывается внутрь с ошеломленным треском. Моника проводит рукой по поверхности, обитой тисненой кожей; поправляет промокашку; трогает колпачок автоматической ручки, лежащей в своем гнезде.
Она всегда знала, что она – любимица. Просто, говорит она себе, так сложилось. Конечно, вслух никогда ничего не произносили, это было не в их духе. Но она знает, что так и есть, и в мыслях, и в делах. Все знают. Что она может сделать, если они больше ее любили, если им больше нравилось ее общество, если ее жизненный путь казался им наиболее совместимым с их собственным? Их всегдашнее одобрение – она его никогда не искала и не просила. Она ничего не может с этим поделать; это никогда от нее не зависело, ни капли. Она всегда знала, несмотря на то что родители твердили о том, как важно учиться, усердно работать в школе, получать хорошие оценки, быть лучшим в классе, именно она – а не Майкл Фрэнсис – радовала их тем, что выбирала. Она нашла себе мужчину, вышла замуж, обустроилась, поселилась в квартире на соседней улице. Ничто из того, что могли бы сделать в этой жизни остальные, не принесло бы им столько счастья. Ничто не придало бы большую ценность тому, какими людьми были они сами, что выбирали для себя, чем то, что их дочь-красавица вышла замуж в пышном белом платье за местного паренька из хорошей ирландской семьи. Ничто. Даже последовавший за этим развод, докатившийся до ее родителей отголосками землетрясения, не смог потеснить ее с первого места. Они разве что приросли к ней еще плотнее. Майкл Фрэнсис мог хоть три диссертации защитить, с ней он бы не сравнялся. Ифа, разумеется, вообще не считалась, с ее-то поведением: она ушла с дороги Моники, чтобы стать наименее любимой. Но Майкл Фрэнсис – Моника часто думала, беспокоит ли его все это. Не потому ли он так трудился, так надрывался в школе. И загубил все одной глупой ошибкой и в результате, точно так же, как она, женился и живет по соседству.