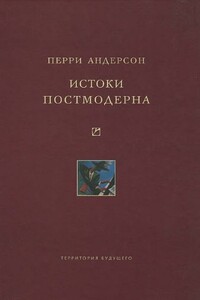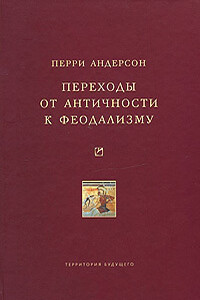Родословная абсолютистского государства | страница 70
Начало эпохи Регентства в 1715 г. показало социальную реакцию на это поражение. Высшая аристократия, чьи долго сдерживавшиеся обиды на королевскую автократию вдруг получили свободу, немедленно вернулась. Регент получил согласие парламента Парижа отвергнуть завещание Людовика XIV в обмен на восстановление традиционного права на ремонстрацию (выражение протеста); правительство попало в руки пэров, которые немедленно прекратили действие системы министерств усопшего короля, приняв на себя прямую власть в так называемой полисинодии. Таким образом, регентство институционально восстановило как дворянство шпаги, так и дворянство мантии. Новая эпоха фактически усилила открыто классовый характер абсолютизма: В XVIII в. неаристократическое влияние в государственном аппарате уменьшалось, вместе с укреплением коллективного господства все более единой высшей аристократии. Захват магнатами регентства не продолжался долго: при Флери и двух слабых королях, сменивших его, система принятия решений на вершине государства вернулась к старой министерской модели, более не контролировавшейся монархом. Однако аристократия начиная с того времени мертвой хваткой вцепилась в высшие должности в правительстве: с 1714 по 1789 г. только три министра не были титулованными аристократами [131]. Юридические магистраты парламентов теперь также формировались узкой стратой дворян, как в Париже, так и в провинциях, от которой незнатные люди были отстранены. Королевские интенданты, когда-то бывшие бичом провинциальных землевладельцев, в свою очередь превратились фактически в наследственную касту: 14 из них в правление Людовика XVI были сыновьями интендантов