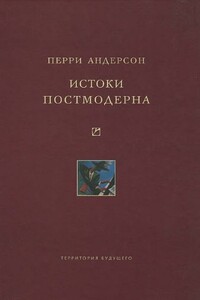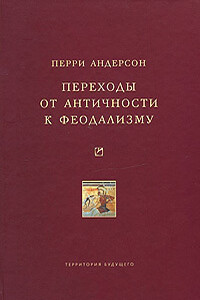Родословная абсолютистского государства | страница 33
Именно на этом фоне космополитичная культура элиты двора и салона распространилась по Европе, типизированная новым доминированием французского языка в качестве международного языка дипломатического и интеллектуального дискурса. На деле, конечно, под внешним флером эта культура была гораздо глубже проникнута идеями поднимающейся буржуазии, уже нашедшими триумфальное выражение в Просвещении. Особый вес торгового и производящего капитала в большинстве западных общественных формаций поднимался на протяжении этого века, который стал свидетелем второй большой волны торговой и колониальной заморской экспансии. Однако он определял государственную политику только там, где буржуазные революции уже случились, и абсолютизм был свергнут, — в Англии и Голландии. В других местах самым впечатляющим признаком структурной связи позднефеодального государства с его финальной фазой была неизменность военных традиций. Реальная сила войск в основном сравнялась или немного упала в Западной Европе после Утрехтского мира: физический аппарат войны прекратил расширяться, во всяком случае на суше (на море — другое дело). Но частота войн и их центральное положение в международных отношениях не изменились серьезным образом. На деле, вероятно, больше территорий — классических объектов аристократической военной борьбы — поменяли хозяев за этот век, чем за любой из двух предшествовавших: среди трофеев были Силезия, Неаполь, Ломбардия, Бельгия, Сардиния и Польша. Война «функционировала» в этом смысле вплоть до конца старого режима. Типологически, конечно, кампании европейского абсолютизма были определенным развитием в рамках повторения. Общим детерминантом всех их было феодальное стремление к территории, характерной формой которого являлся династический конфликт начала XVI в. (борьба за Италию Габсбургов и Валуа). На сто лет (1550–1650 гг.) на это наложился религиозный конфликт между силами Реформации и Контрреформации, который никогда не инициировал, но часто обострял геополитическое соперничество и предлагал ему современный идеологический язык. Тридцатилетняя война была самой большой и последней из этих «смешанных» битв