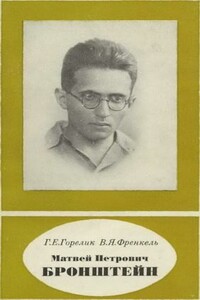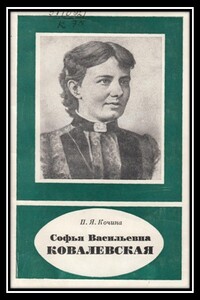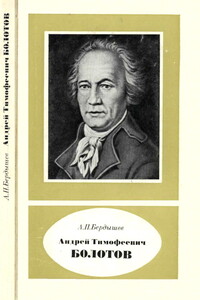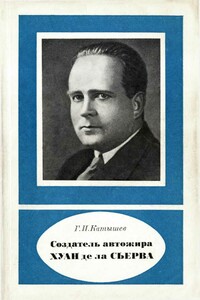Модест Николаевич Богданов (1841-1888) | страница 71
Есть у богдановского Калиныча общие черты с Калинычем тургеневским. Оба — натуры поэтичные, любят и понимают природу. «Он покажет вам в лесной глуши такие примеры самоотвержения и любви у бессловесных животных, у птицы и зверя, что вы поневоле сделаетесь добрее, — писал Богданов о своем герое. — Он научит вас не бояться зла и бороться со злыми. Походив с Калинычем по лесным трущобам, вы перестанете теряться в. беде и падать духом при неудаче. Да что говорить! Найдите Лешего и подружитесь с ним. После скажете спасибо».
Но не только о лесном звере и птице слушал юноша Модест рассказы из уст старого Калиныча. Рассказывал он и о молодцах-пугачевцах, борцах за народную волю. Эти рассказы воспламеняли воображение юного слушателя и остались в памяти Модеста Николаевича на всю жизнь. Богданов говорил, что такие добрые и сильные люди, как Калиныч, есть всюду. Это они научили его любить с юных лет свой родной край и свой народ.
Калиныч — человек сильной и честной натуры. Не любили его кулаки-мироеды, не любили его горькой правды: «Кабы не сила его богатырская, много бы раз избили они его». «Давно его уже нет на свете. Но и теперь хотелось бы повидать его добрые карие глаза. Сколько ума, сколько ласки светилось в этих чудных глазах из-под нависших бровей. В упор смотрели они на человека, и не всякий мог вынести этот мягкий взгляд. Зато сам Калиныч ни перед кем, бывало, не опустит глаз» (I, 160, стр. 51).
Таков старый пасечник — олицетворение народной мудрости, фигура почти эпическая.
Многое хотел бы сказать Богданов детям о борьбе с социальным злом, о борцах за права народа. Но в условиях царской цензуры приходилось прибегать к эзопову языку. Что же оставалось делать, если, по выражению Богданова, даже история какого-нибудь невинного ^тушканчика должна была проходить целый ряд цензур? Цензоры ревниво следили за тем, как изложена эта история и не отклоняется ли она от официально установленного шаблона. Вот и приходилось прибегать к помощи сказок, аллегорий, намеков. Очень выразителен в этом отношении рассказ «Орлиная дума».
В тесной клетке зверинца дремлет старый орел. Мысль его унеслась далеко, на родную Волгу, в киргизские степи, где прошла его жизнь. Был у него хозяин, бедный киргиз Исет. Много лис и волков, корсаков, сайгаков добыл Исету орел. И пошла о нем слава по степи. Прослышал о нем богатый и жадный султан, захотел он забрать орла у Исета. Не отдал Исет крылатого друга. Налетел тогда султан на Исета и убил его. Но орел отомстил за гибель хозяина. «С страшной яростью птица рванулась и впустила все когти султану в лицо. Как ни бился султан, а отбиться не мог и в когтях у орла задохнулся». Опостылела орлу степь без Исета. И полетел он на родную Волгу, к Жигулям, к старому дубу, к родному гнезду. Вскрикнул радостно он... и очнулся. «Перед ним нет ни Волги реки, ни скалы, ни гнезда, только клетки все, клетки и клетки. Всех смутил крик орла, а кто понял его? Разгадал ли из вас кто орлиную думу?» (I, 160, стр. 275—281).