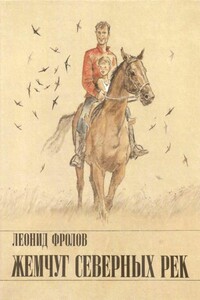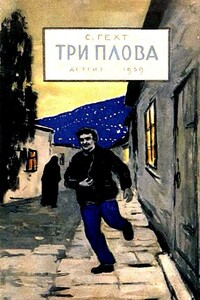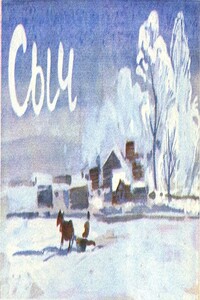Лесные сторожа | страница 69
Противник оказался сильнее меня. Он разделался со мной двумя ударами. Как я жалел, что поблизости не было заводских ребят: они бы ему показали «братишку».
Ночью на пляже меня нашла Настя.
— Ой, — сказала она, — тебе плохо, тебе больно. Дай я вытру тебе лицо. Скажи, что случилось, кто тебя побил? Я пойду и убью этого негодяя. Скажи, кто это сделал?
— Отстань, — сказал я, — не твое дело.
— Идем домой, — звала меня она. — Ты увидишь, я расправлюсь с ними.
Но я не шел, я переживал свое первое горе.
Рассвет застал меня на пляже у низкого деревянного лежака. Медленно поднималось солнце и блестело на воде крупными искрами. Появились уборщицы. Граблями они ровняли песок и собирали мусор. Лежать на пляже с разбитым, заплаканным лицом, тем более, когда возле тебя торчит девчонка, становилось неудобно. Я снял туфли, закатал брюки выше колен и берегом моря отправился домой в город. Настя следовала за мной по пятам.
В городе я встретил Петра Абрамовича, он шел по улице в потертом пиджачке, вместо запонок виднелись канцелярские скрепки. Он проницательно глянул на мои зловещие синяки, словно видел, что за история приключилась со мной вчера на пляже, и неодобрительно сказал:
— Ты дурак. Ты не знаешь, как жить. Чуди покуда. В армии тебе покажут, что такое дисциплина. Или у нас девчонок в городе мало?
Рубашка и брюки у меня были выпачканы в грязи, в таком виде я стеснялся показываться матери на глаза, и Настя затащила меня к себе домой.
— Ты отдохни, — сказала она, — а я быстро выстираю рубашку.
Я нехотя лег и тотчас уснул. Спал я крепко и проснулся часов через пять. Настя мыла пол и не замечала, как я глядел на ее босые, мокрые ноги. Увидела, спросила:
— Проснулся?
— Проснулся, — буркнул я.
В комнате стояла тишина. Я лежал на Настиной кровати, узкой, почти в одну доску. В окнах пузырилась марля, и было тихо.
Свежая, выстиранная и выглаженная рубашка, перекинутая через спинку стула, говорила о том, что утро кончилось. Об этом говорил и свет знойного полдня за марлей, и жаркий воздух, и неприятное состояние залежавшегося тела.
Я нисколько не удивился тому, что вчера был побит, ни тому, что умывался из чужого умывальника, сидел за чужим столом, медленно ел чужой хлеб, и, уходя, сказал:
— Пойдем в горы. Вечером.
Был мой последний вольный день. Штопаный туристский рюкзачишко лежал набитый до отказа всякими ненужными вещами: шерстяными носками, тряпкой, чтобы вытирать ноги, двумя шелковыми сорочками. Мать никак не могла примириться с мыслью, что в армии они мне совершенно не пригодятся.