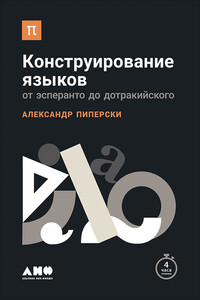Языкознание: от Аристотеля до компьютерной лингвистики | страница 68
Иной взгляд здесь высказывал Поливанов. Он считал, что лингвист должен быть, помимо всего прочего, «языковым политиком, владеющим (пусть и в ограниченных размерах) прогнозом языкового будущего». Однако пока что прогнозы языкового будущего не имеют строгой научной базы. Чаще всего они бывают построены на предположении о том, что некоторые действовавшие до настоящего времени тенденции будут сохраняться и впредь. Но не всегда так бывает.
Ясно сейчас лишь одно: если описание конкретных изменений, происшедших в прошлом тех или иных языков, основано на структурном анализе тех или иных состояний языка, то причины этих изменений нельзя понять без обращения к вопросам функционирования языка.
Еще одна проблема теории языковых изменений связана с тем, насколько они могут быть сознательными. Выше говорилось о бессознательных изменениях, часто имеющих предпосылки еще в речи маленьких детей, не вполне усвоивших язык взрослых. Были ученые (младограмматики, Ф. де Соссюр), которые считали всякие изменения в языке бессознательными. Как указывал в 1931 г. в полемике с Соссюром советский лингвист Лев Петрович Якубинский (1892–1945), если бы это было так, то всякая языковая политика вообще была бы невозможна. Он же вслед за своим учителем Бодуэном де Куртенэ отмечал случаи, когда язык изменяется или даже формируется сознательно. Уже более столетия существует язык эсперанто, сконструированный в 1887 г. польским врачом Л. Заменгофом; им владеют миллионы людей. Известны разного рода «тайные языки» (воровские, языки торговцев и др.), где специально изменяются слова в целях непонятности для непосвященных. Наконец, доля сознательности (разная в разных ситуациях) всегда присутствует при формировании литературных языков. Например, современный чешский литературный язык создавался в XIX в. как противовес господствовавшему в культурных сферах тогдашней Чехии немецкому языку, его творцы специально старались придумать как можно больше новой культурной лексики на базе исконно славянских корней. Этот литературный язык нередко упрекали в «искусственности», но он хорошо прижился, а после провозглашения в 1918 г. независимости Чехословакии стал общепринятым.
При изменении нормы любого языка сознательно усваиваемые меры играют значительную роль, что хорошо видно на примере орфографических реформ. Но в то же время и литературные языки в чем-то развиваются стихийно и бессознательно, хотя ввиду существования нормы это происходит внутри определенных рамок. Новые слова, особенно в культурной сфере, очень часто изобретаются сознательно, а их авторы бывают известны. Однако одни из этих слов приживаются в языке, другие — нет. Например, в середине ХХ в. Александр Иванович Смирницкий (1903–1954) ввел в русскую грамматическую терминологию два изобретенных им слова: