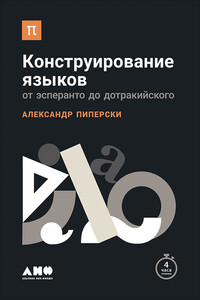Языкознание: от Аристотеля до компьютерной лингвистики | страница 66
Как нередко бывает в истории науки, постановка проблемы, вызвавшей кризис, ведет не к ее решению, а к смене приоритетов. Кризис исторического языкознания привел, как отмечалось выше, к переносу центра внимания на вопрос: «Как устроен язык?», а теоретическое осмысление вопроса: «Как развивается язык?» — отошло на периферию. Историческое языкознание ХХ в., оставшись количественно значительным, продолжало быть по преимуществу «лингвистикой фактов», по выражению А. Сеше. Исключение составляли лишь некоторые ученые, среди которых выделяются Поливанов, Якобсон и французский лингвист Андре Мартине (1908–1999). Все они для объяснения причин языковых изменений должны были выходить за пределы языка как системы правил и обращаться к его функционированию.
Поливанов, развивавший идеи своего учителя Бодуэна де Куртенэ, специально указывал на стремление носителей языка к «экономии трудовой энергии» (по его словам, «основная пружина этого механизма» — «лень человеческая»). Говорящий бессознательно старается упростить произношение сложных звуков и сочетаний звуков, сделать систему более регулярной, освобождаясь от исключений. Каждое новое поколение усваивает уже «изношенный» в звуковом отношении скороговорочный дублет слова и само начинает сокращать («изнашивать») его далее». Однако для экономии имеются пределы: при слишком большой экономии речь становится невнятной и непонятной. Эти идеи развил Якобсон, который видел в языковых изменениях проявление противоречия между потребностями говорящего и слушающего: «Оба участника акта речевой коммуникации подходят к тексту совершенно по-разному». Говорящий старается при построении текста экономить свои усилия и устранять часть существующих в языке различий, но слушающему нужно понять текст на основе этих различий, поэтому для него полезна избыточность, дублирование одного и того же, тогда как экономия затрудняет восприятие. Тем самым потребности говорящего способствуют изменениям, а потребности слушающего предохраняют от слишком сильных изменений в языке.