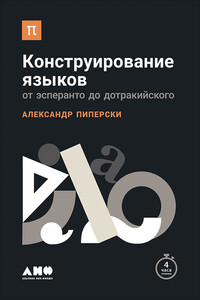Языкознание: от Аристотеля до компьютерной лингвистики | страница 63
В 1930-е гг. другой знаменитый языковед, Николай Сергеевич Трубецкой (не только фонолог, но и крупный компаративист), подверг сомнению обычное понимание языкового родства: «Предположение о едином индоевропейском праязыке нельзя признать совсем невозможным. Однако оно отнюдь не является безусловно необходимым, и без него прекрасно можно обойтись…. Для объяснения закономерности языковых соответствий вовсе не надо прибегать к предположению общего происхождения языков данной группы, так как такая закономерность существует и при массовых заимствованиях одним языком у другого». «Нет, собственно, никакого основания, заставляющего предполагать единый индоевропейский праязык, из которого якобы развились все индоевропейские языки. С таким же основанием можно предполагать и обратную картину развития, то есть предполагать, что предки индоевропейских ветвей первоначально были непохожи друг на друга и только с течением времени благодаря постоянному контакту, взаимным влияниям и заимствованиям значительно сблизились друг с другом, однако без того, чтобы совпасть друг с другом. История языков знает и дивергентное и конвергентное развитие. Порою бывает даже трудно провести грань между этими двумя видами развития».
Таким образом, возможны два предположения, объясняющие причины сходства, например, индоевропейских языков: дивергенция (разделение) единого праязыка и конвергенция (то есть скрещение) первоначально не обязательно родственных языков (эти предположения абсолютно не исключают друг друга: скрещиваться могут и ранее разошедшиеся языки). «Между тем до сих пор при обсуждении "индоевропейской проблемы" учитывается только предположение чисто дивергентного развития из единого индоевропейского праязыка. Благодаря этому одностороннему подходу всё обсуждение проблемы попало на совершенно ложный путь…. Стали рассуждать о местожительстве, культуре и расе индоевропейского "пранарода", между тем как этот пранарод, может быть, никогда и не существовал». Трубецкой фактически вообще «закрывал» проблемы, связанные с реконструкцией ненаблюдаемых лингвистических объектов прошлого. Если соотношение двух противоположных процессов подвержено множеству случайностей и может быть каким угодно, то нет возможности выработать какой-либо строгий метод.
С этим подходом, однако, не согласны все сколько-нибудь значительные современные компаративисты. Сравнительно-исторический метод, основанный на спорной гипотезе о родословном древе, работал и работает, дал и продолжает давать науке много нового. А построить сколько-нибудь равноценную методику на основе какой-либо иной теории не удалось. Теоретические идеи Бодуэна де Куртенэ были очень разумными, но как на их основе работать с массами языкового материала, осталось неясным. Трубецкой же вообще снимал всю проблему с повестки дня, хотя ряд результатов, полученных компаративистами, слишком впечатляющ.