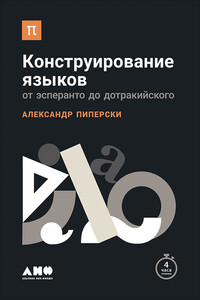Языкознание: от Аристотеля до компьютерной лингвистики | страница 50
Вот один пример. Каждый, кто учил западные языки, знает, что одну из грамматических трудностей составляет употребление времен. И английская, и французская система времен (значительно отличающиеся и друг от друга) сложнее русской системы, времен там больше. Однако во всех индоевропейских языках Европы есть общее свойство: глаголы имеют разные формы для обозначения прошлых, настоящих и будущих действий и состояний. Везде можно говорить, что есть грамматическая категория времени в глаголе (притом что существительные и прилагательные по временам не изменяются). Самое первое в Европе определение глагола, принадлежащее Аристотелю (IV в. до н.э.), было: «сочетание звуков, обозначающее время». И очень долго казалось, что так должно быть в любом языке. Но в других языках всё может быть иначе.
Например, в японском языке, во-первых, времен всего два: прошедшее и непрошедшее (настояще-будущее), во-вторых, по временам изменяются не только глаголы, но и прилагательные. В этом языке, помимо форм со значением «большой» или «красный», есть формы тех же прилагательных со значением «был большим», «был красным». Но там все-таки имеется грамматическая категория времени (так в современном языке; в древнеяпонском языке, скорее всего, ее не было, а была лишь категория вида). Однако на севере той же Японии (Хоккайдо), на Сахалине и на Курильских островах еще недавно существовал загадочный по происхождению айнский язык, чьи родственные связи остаются неизвестными. Сейчас он исчез, полностью вытесненный японским языком, однако исследователи успели его описать. И в этом языке, обладавшим довольно сложной морфологией, вовсе не было категории времени; одна и та же грамматическая форма могла относиться и к прошлому, и к настоящему, и к будущему. Нет такой категории и в китайском, и в других изолирующих языках, где грамматические категории в обычном смысле отсутствуют или почти отсутствуют. Это, конечно, не надо понимать в том смысле, что значения, связанные с прошлым, настоящим или будущим, нельзя выразить в таких языках. Там может быть сколько угодно слов со значениями «раньше», «сейчас» или «завтра». Но это лексика, а не грамматика.
Однако очень многие авторы грамматических описаний «экзотических» языков исходили из того, что в любом языке глаголы обязательно изменяются по временам, которых должно быть не меньше трех. И в изолирующих языках, скажем, служебное слово со значением законченности действия могли трактовать как окончание прошедшего времени. А выдающийся отечественный японист Николай Иосифович Конрад (1891–1970) в грамматике 1937 г. выделил в японском языке грамматические формы трех времен. При этом он указывал, что формы будущего времени могут иметь также значение некатегорического настоящего, а формы настоящего времени — значение категорического будущего. То есть и те и другие формы могут употребляться и в отношении настоящего, и в отношении будущего, различаясь степенью категоричности. Кроме того, существуют (хотя употребляются редко) и формы некатегорического прошедшего, которые Конрад проигнорировал. Как сейчас уже признали в большинстве японских грамматик, там существуют две грамматические категории. Одна из них действительно время, но времен только два. Другая категория обозначает степень реальности действия с точки зрения говорящего (