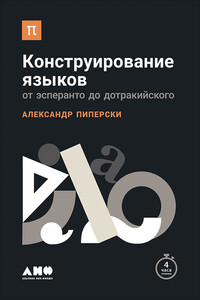Языкознание: от Аристотеля до компьютерной лингвистики | страница 37
Тем более трудности усиливались, когда разработанные в фонологии методы переносились в другие сферы лингвистики. Описание русских падежей у Якобсона выглядит очень красиво, но сама идея существования у каждого русского падежа некоторого общего значения далеко не очевидна и принимается не всеми лингвистами. Недостаток данного описания не в применении метода оппозиций, а в исходных пунктах теории, на которые Якобсон опирался. Чем сложнее область исследований лингвистов, тем труднее было сводить факты языка к жестким схемам, применявшимся фонологами, и ограничиваться «взаимодействием языковых символов».
И в период господства структурализма находились лингвисты, указывавшие на ограниченность подобного взгляда на язык. Видный иранист и интересный теоретик языка Василий Иванович Абаев (1900–2001) в 1960 г. писал, что язык — одновременно знаковая и познавательная система, а структуралисты переоценивают знаковость языка, игнорируя его «познавательную систему» (в наши дни чаще употребляют синоним «когнитивная система»). Это может давать результаты там, где «чистые отношения» в языке преобладают (фонология), но мешает изучать языковые значения. И действительно, структурная лингвистика достигла немалых успехов именно в фонологии, а не в семантике.
И тем не менее нельзя игнорировать того, что было разработано в структурной лингвистике. Это признавали и ее противники. Так, видный историк русского языка академик Олег Николаевич Трубачев (1930–2002) писал: «Следует спокойно признать…, что в каждом из нас, хоть, наверное, в разной степени, засели зерна структурализма, непротиворечиво согласующиеся с исследовательской практикой (оппозиции всякого рода, нейтрализация оппозиций, etc.), и было бы неблагодарностью отрицать это». С этими словами перекликаются и формулировки Н. Хомского: структурная лингвистика «подняла точность рассуждений о языке на совершенно новый уровень», и структурные методы нужно использовать.
В разрешении вопроса: «Как устроен язык?» — структурные методы дали немало. Чрезмерными были лишь их претензии на всемогущество (как до того претензии сравнительно-исторического языкознания). В наши дни видны границы их применимости. Ограниченное понимание лингвистики как науки о языковой структуре (то есть науки, моделирующей правила, преобразующие смысл в текст и текст в смысл), закономерное для первой половины ХХ в., уже устарело. Показательно появление в конце 1990-х гг. в журнале «Вопросы языкознания» совместной статьи российского и зарубежного ученых под симптоматичным названием «Расставаясь со структурализмом».