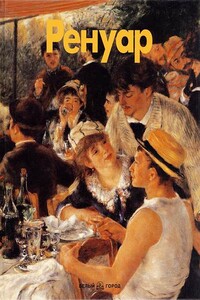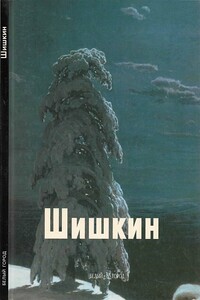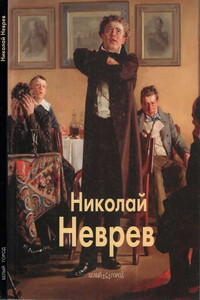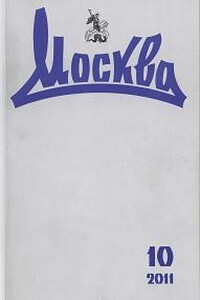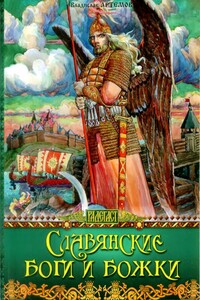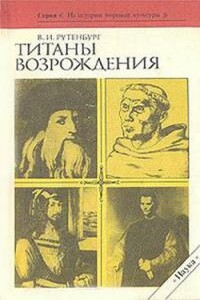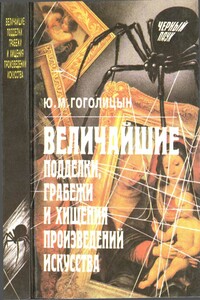Рябушкин | страница 25
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
В 1903 году Андрей Петрович пишет большие картины Иоанн Грозный с приближенными и Петр Великий.
Когда обе картины были закончены, он призвал к себе в мастерскую несколько близких людей, которым особенно верил, и спросил их, какую картину можно отправить в Петербург на выставку «Мира искусства». Все указали на Иоанна Грозного с приближенными как на наиболее типичную вещь, вполне законченную и серьезную. Он так и сделал. Спустя некоторое время Андрей Петрович поехал на выставку, но своей картины там не нашел. Она оказалась непринятой и стояла в распорядительской комнате. Это сильно задело его самолюбие, и он, не говоря ни слова, прямо с выставки уехал в деревню, послал своего слугу за картиной, и, хотя тот упрашивал Андрея Петровича отдать ему ее, с тем, что он будет служить за это даром три месяца, Рябушкин сжег ее. В последние годы он жег вообще беспощадно все, что залежалось или что, по его мнению, «никому не нужно». Дело доходило до того, что он бросал в огонь работы даже одной своей ученицы, приговаривая: «Куда вам это?.. Жалеть нечего!.. Напишете еще».
Отказ в приеме работы на художественную выставку болезненно отозвался в его душе, к тому же он был принципиальным противником «экспертизы» и говорил обыкновенно: «Художник должен отвечать сам за себя, единственным судьей его является публика, которая может заклеймить всякую фальшь и бездарность собственным приговором. Никаких посредников не нужно!».
В 1903 году А.П. Рябушкину снова приходится исполнять церковный заказ: он делает несколько эскизов внутренней росписи православного собора в Варшаве, а затем пишет полотна Чаепитие, Новгородская церковь.
Одним из сюрпризов посмертной выставки была впервые появившаяся на ней небольшая картина, названная в каталоге В деревне, пронизанная тонкой оригинальностью и мастерством работ последних лет. Куда-то спешат по улице мимо избушек чем-то озабоченные женщина в красивом старинном костюме и подпоясанный, в длинном желтом балахоне черный мужчина, может быть, знахарь или сектант-фанатик. Рябушкин дал удивительно живую картину, изящную и гармоничную.
Совсем особняком стоит небольшая гуашь Новгородская церковь, в которой есть что-то левитановское по общему тону и настроению. Если исключить довольно многочисленные рисунки и наброски церквей и монастырей, сделанные пером и карандашом во время путешествия и частью помещенные в иллюстрированных изданиях, то это чуть ли не единственный опыт Рябушкина в передаче старинной архитектуры в связи с пейзажем. Здесь прочувствована чисто русская красота слияния наших старинных церковок с широким пейзажем.