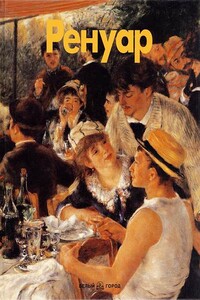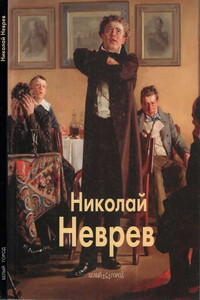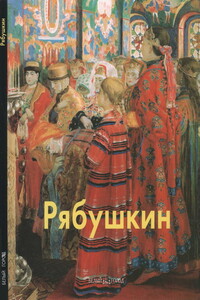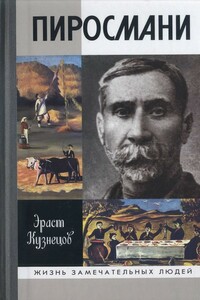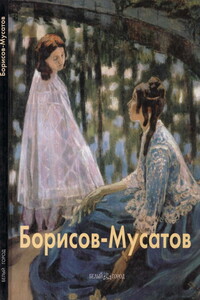Шишкин | страница 9
Впервые после заграницы Шишкин обратился к ярко выраженному русскому сюжету в картине Полдень. Окрестности Москвы. Братцево (1866), оконченной спустя год после возвращения. Вместе со Львом Каменевым художник провел лето на этюдах в подмосковном селе Братцево. Для Шишкина все было новым: виды Подмосковья, равнинное раздолье, освещение, частые дожди и грозы. Ко всему надо было привыкать, отвыкая от швейцарских впечатлений. Картина Полдень. Окрестности Москвы. Братцево явилась вариантом или первым приступом к известному полотну Полдень. В окрестностях Москвы (1869).
В 1867 году художник снова отправился на легендарный Валаам. Для него остров был не только воспоминаниями юности, но и попыткой зарядиться там сюжетами, проверенными долгой академической практикой. На Валаам Шишкин поехал совместно с семнадцатилетним Федором Васильевым, которого опекал и обучал живописи (лежащий у мольберта художник на картине Церковь. Валаам, вероятно, Васильев).
Философия шишкинского пейзажа, утвердившаяся на многие годы, исходила из восхищения натурой, в которой виделось проявление вечной жизни природы. Может быть, вследствие такого понимания пейзажной задачи уже в начале пути сформировались два фактора, обусловившие все творчество художника. Это — особое внимание и самое пристальное изучение предметного плана и как следствие этого — любовная проработка переднего плана картины.
Как самостоятельный предмет изображения мощные замшелые камни, подточенные старостью иссушенные стволы деревьев, травы, цветы, грибы и папоротники появились в этюдах Камни в лесу. Валаам (1858–1860), Вид на острове Валааме (1858), Береза и рябинки (1878), Камни, Мухоморы, Гнилое дерево (1890). Переселяясь затем в картины, они становились самостоятельным предметом восторженного удивления.
Упоение материальным миром, желание передать его на холсте почти физически осязательно не только свидетельствовали о натуралистических пристрастиях художника, но стали ведущим методом его творчества.
В этом смысле картина Рубка леса выбивалась из намеченной схемы и вместе с тем смыкалась с ней фактографичностью. Она не завершала предыдущий период, ибо начинала новый, связанный с темой русского леса.