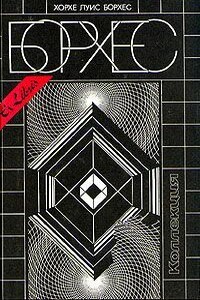Книга, обманувшая мир | страница 44
Вот и получается, что если перевели Солженицына в шарашку, то только потому, что оперуполномоченный дал согласие на такой перевод, написал нужную характеристику, дал «добро» на такой перевод. Не надо больше разжевывать, чтобы объяснить, что означало такое «добро» в той ситуации, которую так неосторожно рассказал сам Солженицын.
Но это еще не все. Ведь письменное обязательство «стучать» не пропадает бесследно. Оно вшивается в лагерное дело заключенного и следует за ним всюду, куда бы тот ни попал. Эта Каинова печать прилеплена к нему на веки вечные, и, прибыв на шарашку, он непременно попадает в цепкие лапы теперь уж другого опера. Даже если допустить, что в прежнем лагере на Калужской заставе Солженицыну и удалось совершенно безнаказанно отвертеться от тамошнего опера (а это совершенно невероятно) то уж там-то, с такой бумагой, подшитой в его личном деле, он никак не мог избежать специального внимания нового опера.
О том, как на шарашке Солженицын «сумел» уклониться от своей новой службы — мы, к сожалению, не знаем. Об этом он почему-то в «Архипелаге» не распространился…
Вернемся-ка мы к началу нашего рассказа об этом скользком эпизоде жизни Александра Исаевича. Вот он сказал:
«Что-то неохотно рассказывают мне лагерники, как их вербовали».
Сказал — и не подумал, что он ведь плюнул в лицо тысячам и тысячам честных старых лагерников! «Неохотно рассказывают» — это значит боятся, не хотят рассказывать? Значит, у них совесть нечиста? Тоже, значит, давали подписку и стучали? Так, что ли? По Солженицыну выходит — только так.
А спрашивал ли он? Много ли он об этом спрашивал старых лагерников, с которыми беседовал? Мне так думается, что он их совсем не спрашивал о том, как их вербовали и вербовали ли их вообще, потому что ему неприятно было бы услышать рассказы о том, как люди устаивали перед наседавшим опером, не сдавались безмолвно, оставались чистыми на весь лагерный срок, не боялись преследований лагерного начальства.
Вот мне не задал такого вопроса. Спросил о власовщине, о волнениях в воркутинских лагерях летом 1953 года, а вот о том, вербовали ли меня и как это было — не спросил. Постеснялся, может быть. А может — не хотелось? Напрасно. Кое-что, не лишенное для него интереса, услышал бы.
«Так расскажу ж о себе» и я. К самому месту этот рассказ подойдет.
По поводу лагерной моей жизни мне нельзя сочинять, придумывать, тем более врать — по той простой причине, что весь мой фактический отсиженный лагерный срок прошел на одном месте, в заполярной Воркуте. Только перекидывали меня из одного лагеря в другой, когда опер-чекистская служба углядывала, наконец, что я более или менее сносно устроился: на новом месте всегда надо было опять начинать с общих работ, в шахте ли, на поверхности ли. А соврать мне не дадут старые товарищи, которые еще живы и знают мою лагерную жизнь всю, и кое-кто из них даже сейчас здесь, в Ленинграде, живет и работает.