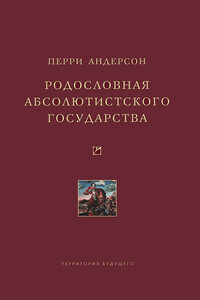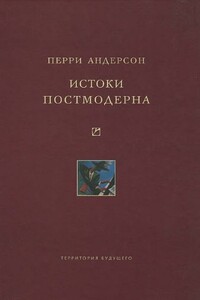монархической интеграции страны. Как только это произошло, политические последствия оказались необратимыми. Династия Гогенштауфенов, которая возникла после кристаллизации новой социальной структуры, стремилась построить обновленную имперскую власть на ее основе, признав опосредование юрисдикций и разветвленный вассалитет, который развился теперь в Германии. Фридрих I, по сути, взял на себя инициативу по организации новой феодальной иерархии, беспримерной по своей сложности и жесткости –
Heerschildordnung , – и созданию княжеского класса из своих опорных вассалов, возвысив их над остальной знатью и возведя их в ранг
Reichsfürsten .
[237] Логика этой политики заключалась в превращении монархии в феодальный сюзеренитет в собственном смысле слова и отказе от всей традиции каролингского правления. Но ее необходимым дополнением было выделение достаточно больших королевских владений, предоставляющих императору самостоятельную финансовую основу, которая делала его сюзеренитет более действенным. Поскольку родовые имения Гогенштауфенов в Швабии совершенно не подходили для этого, а прямая агрессия против своих же германских князей была неразумна, Фридрих попытался превратить Северную Италию, которая всегда была чисто номинально имперским владением, в прочный внешний оплот королевской власти по ту сторону Альп. Но такое сочетание германского и итальянского суверенитета угрожало нанести смертельный удар по папской власти на полуострове, особенно после того, как за ее спиной Сицилия вошла в имперские владения при Генрихе VI. Возобновление в результате этого войны между империей и папством, в конце концов, исключило всякую возможность установления прочной имперской монархии в самой Германии. С Фридрихом II династия Гогенштауфенов существенно итальянизировалась по своему характеру и взглядам, тогда как Германия оказалась предоставленной своему баронскому устройству. После еще одного столетия войн окончательным итогом стала нейтрализация любой наследственной монархии в XIII веке, когда императорская власть окончательно стала выборной, а Германия превратилась в сложный архипелаг княжеств.
Если установление германского феодализма было отмечено и отсрочено сохранением племенных институтов, восходящих ко временам Тацита, то развитие феодализма в Италии пошло ускоренным, но значительно модифицированным путем вследствие сохранения здесь классических традиций. Отвоевание Византией большей части полуострова у остготов в VI веке, несмотря на материальные разрушения, которые оно за собой повлекло, помогло сохраниться этим традициям на критическом этапе Темных веков. Варварское заселение все же было относительно ограниченным. В результате Италия так и не утратила муниципальную городскую жизнь, которая была в ней во времена Римской империи. Крупные города вскоре вновь превратились в центры средиземноморской торговли, процветая в качестве портов и перевалочных пунктов задолго до любых других городов в Европе. Церковь во многом стала социальной и политической преемницей старой сенаторской аристократии; епископы были типичными администраторами итальянских городов до XI века. Из-за преобладания романских элементов в феодальном синтезе этой зоны, где юридическое наследие Августа и Юстиниана, естественно, имело большое значение, отношения собственности здесь никогда не строились по строго феодальному образцу. Начиная с Темных веков сельское общество всегда оставалось крайне гетерогенным, сочетая в различных областях феодальные держания, свободные крестьянские владения, латифундии и городских землевладельцев. Маноры в собственном смысле слова встречались в основном в Ломбардии и на Севере, тогда как земельная собственность, с другой стороны, больше всего была сосредоточена на Юге, где классические латифундии, обрабатывавшиеся рабами, сохранились при византийском правлении до раннего Средневековья.