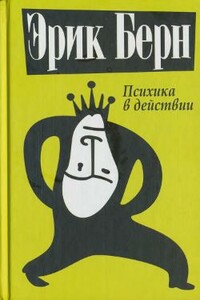Троица. Будь больше самого себя | страница 34
Конечно, зареветь во всю мощь могли и дети с «истероидным радикалом», испытывая фрустрацию потребности в безопасности. Более того, все дети расстраивались после ухода матери (подкорка, всё-таки, есть у обладателей любого психологического типа).
Но важно, как дети вели себя дальше - одни продолжали испытывать потребность в другом человеке, а потому расстраивались всё больше и больше, а другие, благодаря активности левого полушария, напротив, с лёгкостью переключались на неодушевлённые вещи и прочие обстоятельства ситуации.
Что ж, стоит ли после этого удивляться, что «шизоиды», в среднем, обладают более выраженным, нежели остальные психологические типы, «вербальным интеллектом»: им легче даётся абстрактная словесно-логическая деятельность, математика, программирование и овладение иностранными языками. В общем, «мыслители» чистой воды.
Итак, говоря о нейрофизиологии того или иного психологического типа - «истероидного», «шизоидного» или «невротического», - нам не следует всё сводить лишь к вертикальным отношениям мозговых структур (мол, кора, подкорка - и всё тут). Нет, мы должны учитывать и горизонтальные взаимодействия, в частности межполушарные.
Боль самосохранения
Это инстинкт, крошка... и, если на то пошло, я верю, что инстинкт — железный скелет под всеми нашими идеями о свободе воли. СТИВЕН КИНГ
Когда мы говорим об инстинктах, речь идёт вовсе не о каких-то загадочных силах и сущностях, которые действуют в нас неким тайным и мистическим образом. Нет, речь идёт о банальной психофизиологии.
Детальный анализ реакций нашего мозга на раздражители позволяет достаточно чётко выявить специфические паттерны трех наших базовых инстинктов - самосохранения, социального и полового.
Впрочем, у каждого из нас свой набор генов, а потому выраженность соответствующих паттернов у разных людей может сильно отличаться:
• у кого-то, например, более высокий болевой порог, а у кого-то - напротив, чрезвычайно низкий;
• кто-то хорошо считывает эмоциональные состояния других людей, а кому-то это даётся с трудом;
• кто-то буквально физически страдает от недостатка телесной близости, а кто-то, напротив, испытывает выраженный дискомфорт и даже раздражение, когда кто-то к нему прикасается.
Впрочем, это лишь верхушка нашего нейрофизиологического айсберга. Подобных - несущественных, на первый взгляд, и незначительных по отдельности - индивидуальных особенностей мозга у каждого из нас превеликое множество.