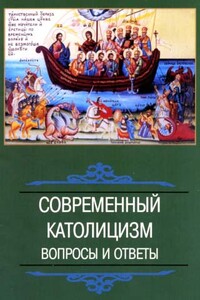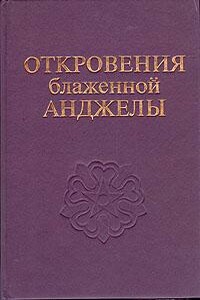Католическая церковь и русское православие. Два века противостояния и диалога. | страница 29
В том что касается внутренней политики, церковь без всякого сомнения оказалась мощнейшим фактором национального единства в огромной и неоднородной империи. Эта ее функция приобрела особенную важность в военной сфере, в условиях постоянной внешней угрозы, сопровождавшей рост России до действительно имперских масштабов. Лишь благодаря церкви и ее нравственному авторитету огромные массы солдат, в большинстве своем неграмотных, но зато исполненных крестьянской религиозности, несмотря на очень долгий — двадцатилетний — срок службы, сохраняли верность государству и делу объединения. Использование церковной структуры в вооруженных силах было также эффективным способом поддержания дисциплины. Для поддержания морального духа рядовых солдат в первую очередь использовались воспитание и ежедневное богослужение, как бы продолжающее те литургии, которые совершали оставшиеся в деревнях священники. Каждая военная часть, на какой бы фронт ее ни посылали, брала с собой иконы. Перед лицом врага солдаты возносили свои сердца к Богу, осеняли себя крестным знамением и, глядя на святые образа, молились о победе русского оружия. Перед атакой полковые священники в торжественных облачениях служили напутственный молебен, а солдатам предписывалось, по примеру Суворова, читать девяностый псалом и другие молитвы. Так, во имя Господа и императора, они могли принести в жертву и свою жизнь, будучи уверенными, что их ждет жизнь вечная.
При практически «официальном» господстве такой идеологии (или совокупности идеологий), в которой религиозно-церковные элементы были тесно связаны с общественно-политическими, взаимоотношения России с Западной Европой не могли не быть до определенной степени искажены, и в любом случае нельзя было избежать огромного количества оговорок. Тем не менее именно в эпоху Священного союза, а особенно в 40-е годы XIX века, в России началось развитие философской и теософской мысли, которое в конце концов поставило под сомнение «мифы» и убеждения, корнями уходившие в прошлое, но обладавшие необыкновенным запасом жизненной силы и в настоящем. После 1812 года, когда Западная Европа явилась в Россию вооруженной и на борьбу с великой армией Наполеона были мобилизованы все «национальные» силы; после идеологически-религиозных трений и споров, которые привели к тому, что люди вроде Баадера и Мещерского почувствовали желание — или даже насущную необходимость — обогатить Россию с помощью европейского опыта; после глотка свежего воздуха и последующего столкновения с тяжелой российской действительностью, которое пришлось пережить молодым офицерам, вернувшимся после походов в составе российской армии во Францию и вотчину романтики — Германию — наконец, благодаря распространению в России немецкой идеалистической философии, в первую очередь идей Шеллинга, но также и Гегеля, и Фихте, и других мыслителей, — вследствие всей совокупности этих факторов или некоторых из них культурные, образованные слои московского и петербургского общества оказались в кризисе. По мнению наиболее разумных и беспристрастных наблюдателей, «официальная» идеология была лишь одним из способов прикрыть жестокость самодержавного режима, который без всякого стеснения подавлял свободу совести.