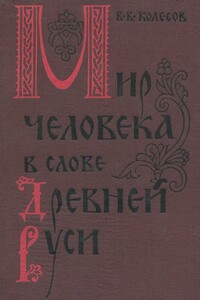Древняя Русь: наследие в слове. Бытие и быт | страница 16
О ментальности здесь материала немного, пожалуй, только одно. Иностранцев поражает, что русский мужик сеет не всякое лето: ленив. Объяснение просто: прошлым годом хороший был урожай, на три лета хватит с избытком, можно чем другим заняться, а землица-матушка пусть отдохнет.
Идеализированный образ средневекового человека не создается в литературе и не нормируется в законе. Он следует традиции, в которой уже сложился тип народной жизни. Вступая в новые обстоятельства жизни, сталкиваясь с необычными положениями или неизвестными событиями, этот тип должен был проявить себя в зависимости от своей нравственной позиции — через действие или деяние, «не образом, но делы!» Такой тип и оценивался, не по лику, не по внутренним своим признакам, а по исполненному делу — по функции его. Отвлеченные силы добра и зла материализовались в самом человеке, и тяжкий жизненный путь состоял в том, чтобы «тянуть человека от зла к добру», уча добродетели подобием, в сопереживании с образцами. Но в каждом развороте событий для безмерно сложной и бесконечно грешной человеческой личности всегда характерны признаки: верность, мужество, мудрость и прочие (Лихачев, 1958, с. 45 и след.).
На основе многих древнерусских источников типичный портрет средневекового человека, его душевный мир рисуются следующим образом: «Человек „самовластен“ — своей волей совершает поступки, ведущие к добру или злу, к правде или неправде;
именно „деяния“ определяют положительную или отрицательную оценку данной человеческой личности;
из всех свойств человека самым ценным признается ум („разум“, ,,смысл“) — он лучше видит, чем зрение, лучше слышит, чем слух;
вместе со словом разум отличает человека от животного, ум следует развивать „наказанием“ (учением), а словом надо пользоваться с осторожностью, помня его силу, которая может быть и полезна, и вредна человеку;