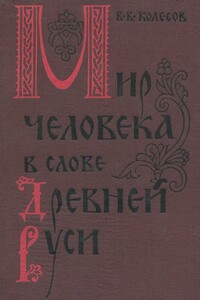Древняя Русь: наследие в слове. Бытие и быт | страница 12
Только совместно муж и жена составляют Дом. Без жены мужчина не является социально полноправным членом общества, он остается при другом, отцовском, Доме. Функции мужа и жены распределены согласно старинной правовой формуле: слово и дело. Последнее слово всегда остается за государем, но делом в доме занимается государыня (сударыня).
Что же касается воспитания детей — довольно суровыми, надо признать, методами, то и в этом Домострой не оригинален, ибо вся средневековая педагогика построена была на телесных наказаниях. Своеволие и дерзостное упрямство как проявления «нравственной свободы человека» можно было подавить только «нравственною уздою» (слова И. Е. Забелина). До конца XVII в. жизнь несовершеннолетнего не признавалась равнозначною жизни взрослого человека; своего ребенка можно было и убить, особенно если он посягал на жизнь или достоинство родителей; внебрачные дети вообще не находили никакой социальной защиты. Если учесть, что самые жестокие советы Домостроя относительно воспитания вынесены «из святых отец», византийская подоплека воспитательных методов станет ясной, на этом фоне гуманные черты самого Домостроя проявятся ярче. Рукой домовладыки, отца, взявшего розгу, двигала не личная озлобленность карающего праведника, а идея неотвратимости наказания за проступок, порок или за самое страшное преступление — лень и безделие. Воля старшего определялась правом вооружиться розгой (жезлом), а семейное начало воспитывало (в буквальном смысле питало) все направления социального поведения добра молодца.
Если воспользоваться современными понятиями науки об этапах развития личности, выяснится, что домашнее воспитание, описанное в Домострое, так или иначе исполняло две первые воспитательные функции: развивало возрастно-половые и индивидуальные свойства ребенка, т. е. вырабатывало темперамент и задатки, а затем устанавливало статус человека в обществе, наполняя его социальными «ролями» и ценностными ориентациями, т. е. формировало характер, создавая личность как воплощение определенного социального типа. Что же касается дальнейшего (человек как субъект деятельности, и т. п.), в Средние века было резко отрицательным отношение к воспитанию творческих возможностей человека, к соединению сознания и деятельности в синтезе различных его свойств. В конечном счете это и привело впоследствии к замене подобной педагогики, не подводившей человека к необходимому уровню интеллектуального образования. Средневековому обществу не нужны творческие индивидуальности, они представляют для него опасность.