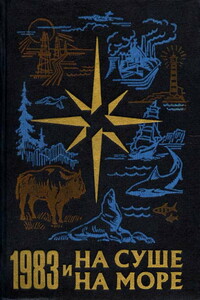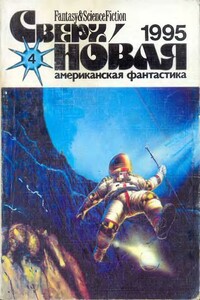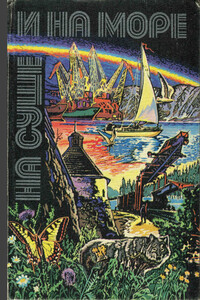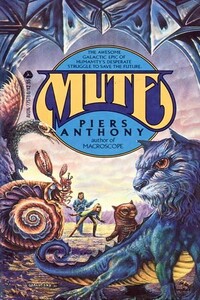Платиновый обруч | страница 23
Эти короткие фразы и разбудили Викентия утром 21 августа, — именно в этот день пятнадцать лет тому назад не стало его деда, но каждый год в этот день, в шесть часов утра, в час упокоения, Викентий исполнял последнюю его волю…
Звуки с улицы странно предвещали ощущение Разрушения. Попытки спрятать голову под подушкой ничего не дали, — Викентий встал, глянул в окно, отпрянул: отвратительное лицо паники — там, снаружи. Теперь казалось, что ею и мебель дышит; не было вещи, которая бы при случае, словно присасываясь к кончикам пальцев, не вдувала бы по ним холод, и он кружил в груди, отнимая дыхание.
Викентий зарылся в теплую еще постель, будто она могла вдруг вздохнуть, погладить по голове и что-нибудь, хоть что-то сказать, спокойно и негромко, человеческим голосом, голосом последнего близкого человека.
— Мы начинаем разбирать. Все. Все представления ваши, — услышал, как и каждый житель города, Викентий и почувствовал движение в комнате.
Потолок оторвался от стен, поплыл в синеву неба вместе с пылью и крошками штукатурки, и ветер закружился по комнате, и странные звуки рухнули в уши.
…Дед был и — не стал. Исходящие от Викентия любые дела, любые молитвы, страдания — ничто; невозможное сжимает бесконечностью, неотвратимо: как суживание потолка, исчезновение верхней квартиры и крыши, как странные звуки. Видно, придется не стать и самому Викентию, который не может вернуть деда, который — никто.
Викентий вздрогнул. Так ощутил это. И слезы на своих глазах. Те разъяренные слезы детской беспомощности, которые вызвал когда-то холод рук деда.
Дрожь била крупно, глаза шарили по полу, боясь потолка из неба. Викентий покачивался в двух шагах от пианино, однако ноги не отрывались от пола… Сфероиды метались над головою.
След слез исчезал во рту. Очередная капля остановилась у края губ, росла. Викентий поморщился, приподнял голову, как если бы пианино вдруг улыбнулось, облизнул угол рта; дрогнули губы, словно на улыбку не хватило сил, и поджались, когда Викентий сел на вертящийся стул. Очевидно, ни одна мысль уже не могла пробиться сквозь волевой прилив, в изначалье которого теплилась робкая радость от того, что не стерто еще воспоминание; и желание усилить, возродить его из омута времени, превратилось в необходимость, которая росла непреклонно. Овеществить… хотя бы это, хотя бы как звук, клавиши, чуть осевшие в малой и первой октавах… вот и голос, только что еще живой: «…сыграешь Чайковского…».