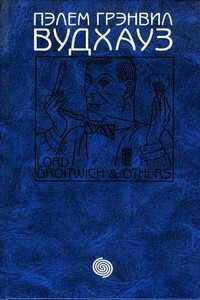Шесть повестей о легких концах | страница 33
Трубка выпадает. Еще дымит в траве. Он — в дом. У огромного стола, где рамы фотографий, пресс-папье, балансы, в кресле бьется Вандэнмэр. Приподымается, руками тычет, как будто ищет рукава пальто, и медленно сползает на ковер, рядом газета: — Радио «всем — всем» и черная игрушка завода «Вандэнмэр и С-вья,» в Сэрен близ Льежа.
«Пти Нисуа».
«Еще одна невинная жертва злодеяний большевиков».
Венки — от министра изящных искусств, от сирот — пожертвовал как-то солидный выигрыш, — от директора казино. От служащих парижской конторы «Меркюр де Рюсси», скромный, из георгин — ждут расчета, но на ленте — «незабвенному гению халчакских рудников».
А в Халчаке заседание совета.
«Отобрать». «Реквизировать». «Распределить».
Егорыч свое.
— Ну разве в этом дело? Велиара, то есть хранцуза борзого с двумя клешнями, с внуками и всеми сродственниками — в бут.
Не знает о легком вечере в далекой «Ла Мюэтт». А знал бы, не унялся. Это только так, для виду. Главный — жив, бодрится, пьет ртуть, батальоны жрет, готовится идти на жалкий Халчак — перемолоть на мельницах людские кости, труху посеять, сжать чертят, рогами — копер-то во какой! — небо пропороть. Ни солнца, ни души не будет — только ртутное сословье, дьявольская шмыготня.
Часть третья
Еще четыре года. Халчак готов, как патриарх ветхозаветный, пресытившись жизнью, отойти. Четыре — и какие! Шестнадцать раз переходил из рук в руки. Был штаб добровольцев, и молоденький офицер, напившись до разномыслья, в ногах Егорыча бил шомполом:
— Врешь, сукин барсук! Ты ряженая Колонтайша. Я тебя на иерусалимской осине вздерну!
Но левая нога, подумав, не сошлась — свернулась, как перочинный ножик. Поручик шлепнулся. Егорыч уцелел. А после, красные его шпыняли. А после был Махно. А после снова белые. Волынка. Выжил. Пожалуй всё, что от Халчака осталось — копер и борода Егорыча. Враг-сатана и страстотерпец в овчине.
Во всей России — страсти. Христос один, и несколько часов. А здесь сто пятьдесят миллионов, года. Мстят небо и земля, правительства, крахмальные воротнички, философы, паровозы — все мстят. За «трах», глухую ночь, когда среди гранитов пролились шрапнели, кровь и сумасшедшая, неслыханная нежность. Сводки. Едят собак, кошек. Мало — еще помет. Еще — дочь, отец. Еще — киргиз какой-то съел седло, распух и громко лопнул. Еще — ком земли. И говорят — пятнадцать лет дождя не будет. Напрасно жадным глазом щупать барометр. Хотели всех обнять — Киренко помнит — «а мы, мы, Эйфелева, Науэн и многие иные, вас запрем, оттиснем, чтоб была Сахара, лопнувший киргиз и пустота». Поля, дома, сердца — и всюду засуха. И всюду стрелка не падет на миллиметр. Вот месть за ртутного владыку Вандэнмэра!