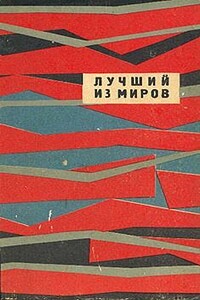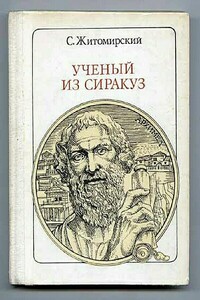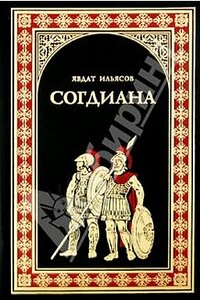Эпикур | страница 53
Перейдя по деревянному мосту через бежавший по каменистому ложу Кефис, Эпикур миновал прозрачную оливковую рощу и оказался перед Гермией — селением, примостившимся у подножия Эгалей. Здесь, левее дороги, стоял жертвенник Прометею, как понял Эпикур, тот самый, от которого в праздники начинается бег с факелами. Выше и в стороне на заросшей травой опушке поднималась стройная круглая башенка, облицованная черно-синим камнем, на фоне которого выделялись белые мраморные полуколонны. Это был построенный Хариклом памятник подруге Гарпала, о котором говорили на корабле. Эпикур подошёл и прочёл эпитафию:
Он поднялся выше, повернул по деревенской улочке налево, доверясь собственному чутью и описаниям Памфила. Действительно, вскоре впереди возникла крытая черепицей стена, и он остановился у двери в рамке из желтоватых известковых плит, над которыми темнела магическая надпись, поставленная Платоном: «Не геометр, да не войдёт».
Эпикур не имел особого пристрастия к геометрии и искусству счёта, которые платоники считали необходимыми для развития ума. Памфил обучил его началам математических наук, но было ещё неизвестно, признает ли Ксенократ его знания достаточными. Приготовив рекомендательное письмо Памфила, он постучал.
Перед Эпикуром открылся широкий двор, в середине которого стояло небольшое круглое святилище Муз, окружённое изящными статуями. От святилища лучами расходились выложенные камнем дорожки, другие кольцами охватывали храм. По краям двора виднелись какие-то постройки и навесы. Между дорожками в разных местах поднимались огромные платаны, в их ветках чернели птичьи гнёзда.
Около святилища на согретой солнцем площадке на складных табуретах сидели люди и слушали крупного полного старца, развалившегося в кресле. Судя по описаниям Памфила, это и был Ксенократ. Он что-то говорил, медленно и твёрдо, иногда заглядывая в свиток. Ученики делали заметки в табличках, все они были немолоды и серьёзны. Эпикур осторожно подошёл, его заметили, но никто не обратился к нему. Юноша увидел свободный табурет, сел позади других учеников и стал слушать Ксенократа.
Он сразу понял, что речь шла о диалоге «Тимей». Ксенократ рассказывал о поздних пифагорейцах: о Филолае из Кротона, Архите Тарентском и герое платоновского диалога, Темее из Локр, в основном об их взглядах на строение мира.
Сперва Ксенократ коснулся вопроса о форме Земли. Противопоставляя взгляды последователей Пифагора воззрениям философов милетской школы, он обосновал мнение о её шарообразности. То, что мир находится посередине между небом и Тартаром. У Гомера и Гесиода можно прочесть, что Тартар так же далёк от Земли, как небо, причём сброшенная с неба наковальня летела бы до Земли девять дней. Эти знания безусловно восходят к Орфею, которому путём откровения их дал Дионис. Но ни Ономакрит, ни Мусей, ни другие орфические поэты не говорили определённо о форме Земли, они учили только, что мир подобен яйцу. Только Пифагор познал, что Земля есть желток Мирового яйца и потому шарообразна. Потом Ксенократ перешёл к строению мира по Филолаю. Этот философ помещал в центре Космоса Гестию, Центральный огонь, Очаг Вселенной, вокруг которого кружатся Солнце, Луна, планеты, звёздная твердь и, кроме того, наша Земля вместе с невидимой для нас Антиземлёю, причём общее число небесных тел составляет священное число десять. Архит же считал, что Мировой огонь находится в центре Земли, и она вращается только вокруг своей оси. Но чтобы свет Гестии мог озарять небосвод и отражаться Солнцем, земной шар разделён по экватору на две половины — нашу Землю и Антиземлю, между которыми имеется просвет.