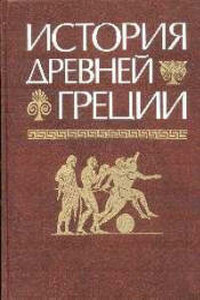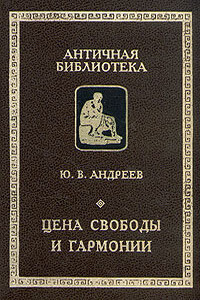Раннегреческий полис (гомеровский период) | страница 93
В конечном счете исход борьбы родовых группировок зависел от того, на чью сторону встанет демос, т. е. основная часть граждан общины, до поры до времени сохраняющая нейтралитет. Как мы уже видели, раскачать эту инертную массу было нелегко, но иногда это все же удавалось, неуклюжий, архаичный механизм варварского государства начинал действовать, и демос превращался в ту грозную карающую силу, с которой мы изредка сталкиваемся на страницах гомеровских поэм. Разумеется, не обязательно видеть в такого рода политической активности демоса непосредственную реакцию самой народной массы на обращенный к ней призыв о помощи. В обществах такого типа, как гомеровское, строящихся по строго иерархическому, сословному принципу, рядовые общинники занимают обычно «нижние этажи» гентильных коллективов, возглавляемых родовой знатью, и уже в силу этого редко бывают способны к самостоятельным политическим выступлениям. К этому следует добавить многообразные формы клиентской зависимости, связывавшие простонародье с аристократическими ойкосами.[332] Как клиенты аристократов или как их фратеры и сородичи низшего сорта простые общинники сопровождали своих вождей и покровителей на народные собрания, дабы в случае необходимости поддержать их криком, а коли будет надобность, то и оружием. В этих условиях прямое обращение к народу через головы «лучших людей» едва ли могло бы иметь успех. Именно знать была здесь главной выразительницей того, что мы могли бы назвать «общественным мнением». Поэтому Гомер чаще всего игнорирует простой народ, делая вид, что не замечает его присутствия на агоре и вообще в городе.
Впрочем, описанная здесь ситуация не оставалась неизменной. Начавшееся еще в эпоху миграций (XII—XI вв. до н. э.) расшатывание жестких архаических форм гентильной организации к концу гомеровского периода уже успело зайти достаточно далеко (с. 76). Род утрачивает свою экономическую целостность и постепенно начинает уступать свое место основной структурной ячейки общества патриархальной семье. В связи с этим происходит высвобождение определенной части рядовых общинников из-под влияния и опеки родовой знати. Об этом свидетельствует такой эпизод, как выступление Терсита во II песни «Илиады». Под уродливой личиной Терсита уже угадываются черты политического деятеля нового типа — демагога, выдвинутого народной массой из ее собственной среды в противовес ее старым аристократическим лидерам. Очевидно, эта фигура вожака толпы хорошо знакома и поэтому так ненавистна как самому поэту, так и его слушателям. Разумеется, по одному этому эпизоду невозможно судить о размахе подымающегося в недрах гомеровского общества народного движения, о его массовости и результатах. Не подлежит сомнению, что процесс высвобождения массы демоса был достаточно длительным и потребовалось не одно столетие для того, чтобы греческое крестьянство окончательно разорвало узы родовой солидарности, связывавшие его со знатью, и осознало себя как класс со своими особыми интересами.