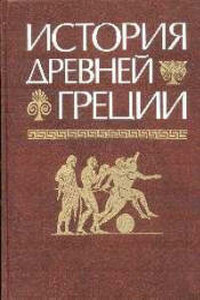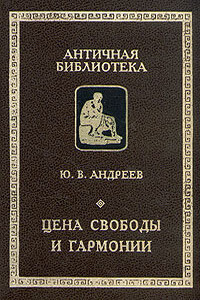Раннегреческий полис (гомеровский период) | страница 86
Впрочем, даже и в те редкие моменты, когда народ пробуждается от своей обычной апатии к политической активности, он напоминает гораздо больше взбунтовавшуюся толпу, чем державного суверена общины. Самое большее, на что способен демос такой, каким его изображает Гомер, — это вспышка дикой стихийной ярости, разрешающаяся судом Линча над человеком, вызвавшим его гнев. Толпа разоряет движимое и недвижимое достояние «врага общества», а у него самого «вырывает из груди милое сердце» — именно это разгневанные итакийцы хотели сделать с Евпейтом, если бы им не помешал Одиссей. В заключительной сцене поэмы герои меняются ролями, и мы видим, как неистовый, обезумевший от скорби Евпейт возглавляет толпу итакийцев, направляющихся к дому Лаэрта с твердым намерением расправиться с Одиссеем и искоренить весь род Аркесиадов (Od. XXIV, 463 слл.). Параллелизм этих двух эпизодов, конечно, не случаен.
Стремительный переход массы от продолжительной пассивности и безучастия к бурной энергии мятежа находит свое естественное объяснение в том, что Евпейт выражает общие чувства, владеющие гражданами Итаки: боль за убитых сородичей и жажду мести. Однако в понимании самого поэта это состояние граничит с безумием и, как всякое безумие, является результатом постороннего внушения: Евпейт, сам уже безумный, заражает своим безумием народ (его имя Έυπείθης звучит в этом контексте с явным оттенком иронии — «хорошо убеждающий на дурное», к тому же отец «безрассудного» Антиноя). Необходимо отрезвляющее вмешательство богов в финале поэмы, чтобы сознание массы прояснилось и она поняла всю бессмысленность и гибельность своего поведения.
Народ, таким образом, представляется Гомеру загадочным существом, подверженным внезапным приступам стихийного гнева, в остальном же пассивным, безмолвным, ни во что не вмешивающимся.[307] Его поведение почти всегда немотивировано. Его поступки трудно предугадать. Иногда создается впечатление, что у него нет своей воли, своих убеждений, что он не знает даже, что хорошо и что плохо для него самого. Поэтому он с такой легкостью поддается самым разнородным, а подчас и прямо противоположным внушениям. Во II песни «Илиады» все ахейское воинство не рассуждая бросается к кораблям по первому же призыву Агамемнона. Ахейцы, в том числе и самые знатные, не подозревают, что это — всего лишь провокация, задуманная «пастырем народов» для того, чтобы испытать свое войско. Всеми владеет одна лишь мысль о скорейшем возвращении на родину. Но вот ситуация меняется. Одиссей с помощью Афины успокаивает охваченную паникой армию и восстанавливает порядок в собрании. Почти мгновенно проделав все это, он разыгрывает затем эффектную сцену усмирения демагога-одиночки Терсита. Толпа, наблюдающая за этим «подвигом» Одиссея, подбадривает его одобрительными репликами и насмехается над Терситом (Il. II, 270 слл.). Разумеется, подходя к этой сцене с позиций обычного (не эпического) реализма, мы могли бы упрекнуть Гомера в том, что он чересчур легко и просто снимает все трудности, стоящие на пути его героя, что психологически немыслим столь стремительный переход от всеобщего возмущения к всеобщему же успокоению, что, наконец, едва ли расправа с защитником интересов народа (а Терсит, несомненно, является рупором народного мнения)