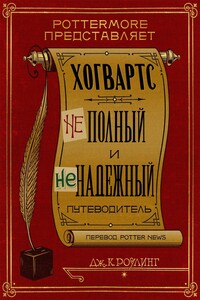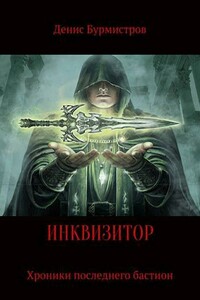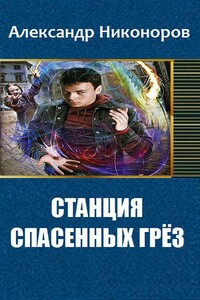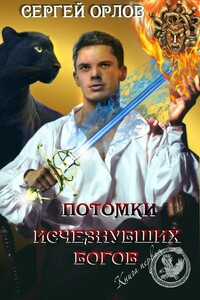Драконослов | страница 11
Как это ни странно, песен в культуре дварфов не было от слова «совсем». Музыкальных инструментов, по словам Вильгельмины, было всего ничего: набор труб с наддувом, вроде органа, только потише (на слух, кстати, подгорный народ отнюдь не жаловался), каменный эквивалент ксилофона и что-то струнное, вроде пианино, но по звуку ближе к гитаре, как я понял, причём практически все инструменты (кроме детских ксилофонов) были стационарными. Были у них и стихи — какого-то чудовищного размера, зверски стиснутые рамками канона оды и саги об исторических событиях и героях прошлого. И то и другое часто звучало во время разновсяческих праздников, но строго раздельно. Как-то облегчить форму и сопрячь с музыкой им так и не пришло в голову — за все двадцать с хвостиком тысяч лет документированной истории. Так что перепетый мной Раммштайн (сам по себе пою я, мягко говоря, не очень, зато ещё в школе выяснилось, что если мне над ухом поставить кого-нибудь, поющего правильно — я превращаюсь в чудесный мегафон) пошёл у Вильгельмины «на ура». Некоторые песни, вроде той же Moskau, остались не совсем поняты даже после моих объяснений, но сама концепция стихов разного размера, положенных на мотив и исполняемых с эмоциями — перевешивала все непонятности текста и огрехи исполнения.
На этом фоне мне вспомнилась прочитанная где-то в интернетах «программа-минимум для попаданцев»: сделать калаш и перепеть Высоцкого, но я решительно задвинул оба пункта. Калаш я тупо не знаю (частичная сборка-разборка на время в школе на уроках НВП даёт весьма приблизительное представление о собственно устройстве), а русский язык Вильгельмина просто не воспринимала. Отдельные слова — могла произнести и даже вспомнить, что они означают, но при попытке разобрать простейшую фразу из двух слов — зависала напрочь, как девяносто пятая винда при форматировании дискеты. При этом на слух она вполне уверенно различала русский, английский (хотя и страшно морщилась, но это мой второй по уровню владения язык после русского), французский (бессмертное «мсье, же не ма шпа сис жу» и пара фраз из третьих «Гоблинов», вытащенных благодаря улучшившейся памяти), японский (аниме — наше всё, ага), итальянский и испанский (регулярно натыкался на четвёртом канале в советские ещё времена), но понимание ей упорно не давалось. Вспомнив папины рассказы, что дед свободно говорил на четырёх иностранных языках, я лишь пожал плечами и отложил лингвистику на потом, сосредоточившись на более прикладных вещах.