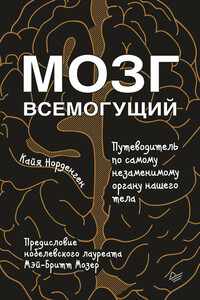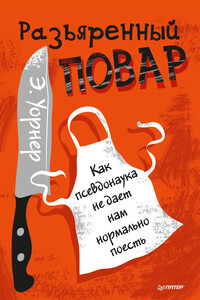Один день из жизни мозга. Нейробиология сознания от рассвета до заката | страница 35
Однако и в срезах, и в неповрежденном мозге под воздействием анестезии активность в ансамбле напоминает рябь от брошенного в воду камня. И так же как сам камень намного меньше, чем расходящиеся от него круги, в ответ даже на короткий стимул света возбуждение распространяется на немалую площадь,[81] значительно превышающую площади устойчивых тривиальных нейронных цепей в коре.[82]
Однако когда вы пользуетесь оптическими методами для наблюдения за мозгом анестезированного животного, вы также можете увидеть нечто такое, что нельзя увидеть в срезах мозга. Например, что в мозге даже без какой-либо очевидной стимуляции постоянно происходят крупномасштабные колебания активности. Нейроны действуют как мини-осцилляторы, которые соединены в цепи с разными временными задержками.[83] С учетом правильного соотношения свойств в группе нейронов, эти колебания могут продолжаться бесконечно, обеспечивая фоновую активность.[84]
Когда мы думаем о том, как функционирует мозг, в голову приходит ассоциация с компьютером. Но мозг – это не бескомпромиссно организованная структура с фиксированными соединениями, бинарными функциональными состояниями включения /отключения. Нельзя отрицать, что такие связи существуют на локализованном уровне и в мозге, но это совсем другая история. Иными словами, мозг не является строго организованной структурой. Напротив, он больше похож на вздымающийся океан – иногда относительно спокойный, но изменчивый, а порой бурный. Наложение на эту нейронную турбулентность единичных триггеров, будь то сигналы, зародившиеся в самом мозге или же вызванные внешним сенсорным раздражителем, вызывает активацию соответствующих нейронных ансамблей.[85]
Но являются ли нейронные ансамбли частью пазла, который мы должны собрать, чтобы понять, что такое сознание? Если да, то они должны быть подвержены действию факторов, заведомо влияющих на глубину сознания. Например, воздействию анестетиков. Ранее мы видели, что основным парадоксом анестезирующих средств является то, что не выявлено единого механизма, обусловливающего их действие. Эти препараты доступны во всех мыслимых формах и концентрациях, а в их химической структуре нет такого сходства, которое позволило бы выделить их как отдельную группу, в отличие от других психоактивных препаратов, даже тех, которые несут дополнительную функцию, как, например, обезболивающие (анальгетики). Примечательно, что на микроуровне анестетики и анальгетики в ряде случаев могут вызывать схожие эффекты: снижение активности – так называемое торможение. Но где же скрывается важное функциональное отличие между теми препаратами, что снимают боль, и теми, что «отнимают» сознание?