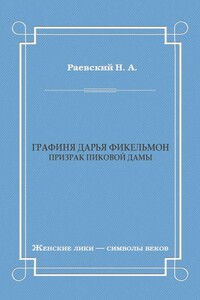Последняя любовь поэта | страница 12
Феокрит знал, что речь Heoфрона для него. Делал вид, что внимательно слушает приятеля, но ему становилось скучно. Всюду одни и те же речи — и в Афинах, и в Александрии, и в Сиракузах, и недавно в Милете. Говорят, говорят, спорят, спорят... Кажется, один Сократ был прав — никто ничего по-настоящему не знает... Хорошие люди философы, но разговоры о жизни любят больше самой жизни. Хотят переделать ее каждый по-своему, а ведь жизнь прекрасна, как она есть... Эпикурейцы все же лучше других. Меньше мудрят...
— Люблю философов, не люблю философии...
Опять она свое. Допила килик, осторожно поставила на стол. Черные глаза блестят еще сильнее. От стройного тела пахнет розовым маслом. В волосах бабочка, тарантидион застегнут на плече золотой черепашкой. Славная черепашка, маленькая, с жемчужными глазами... И плечо коричнево-загорелое. Видно, не боится солнца, как другие гетеры.
В груди у стареющего поэта поднимается радостная волна. Вместо голоса Неофрона, который все еще говорит о борьбе со страхом смерти, Феокрит слышит собственные стихи:
«Ах, моя прелесть, Бомбика! Тебя сириянкой прозвали,
Солнцем сожженной, сухой, и я лишь один — медоцветной,
Темен цветочек фиалки и цвет расписной гиацинта...[16]»
Он улыбается. Снова проводит тяжелой ладонью по тонким пальцам гетеры. Шепчет на ухо:
— Миртилла, твоя чаша пуста, моя тоже. Позови-ка виночерпия!
— Я сама, Феокрит. Позволь мне быть твоей служанкой, прославленный гость.
— Ты больше похожа на Афродиту, чем на служанку.
— Не говори, не говори так — богиня прогневается...
Соскочила с ложа, не надевая сандалий, быстро и осторожно пробирается между гостями. Тарантидион вьется голубым облаком, В волосах переливаются зеленые огоньки. Миртилла довольна. Миртилла горда. Об актере больше не думает. Успеется... Все хорошо — только бы Афродиту не прогневать...
В зале становилось шумно. Неофрон почувствовал, что общей беседе пришел конец. Он дал знак эфебам, и юноши тотчас же снова принялись за уборку. Смели остатки растоптанной зелени и цветов. Разостлали перед пирующими большой квадратный ковер из толстого холста с узорами, вышитыми цветной шерстью. Опрыснули его душистой водой. По углам поставили еще четыре только что заправленных канделябра. И свет и тени стали резче. Загорелые, натертые маслом тела эфебов блестели, словно бронзовые статуи. Музыкантши, усевшись на низких стульях, пробовали свои кифары[17], тригоны[18] и авлосы[19]