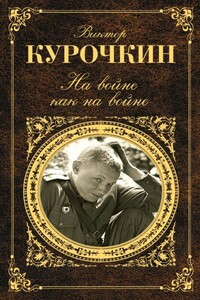Урод | страница 28
— Вы, Герман Андреевич, совсем не учитываете характер Урода и его привязанность ко мне. А поводырем собаки я, извините, не буду.
Отелков встал и пошел к двери. Но прежде чем толкнуть дверь, помедлил: он ждал, не остановит ли его режиссер. Гостилицын не остановил.
Угроза Отелкова была настолько нелепой, что в первую минуту Гостилицын растерялся. Потом он грустно усмехнулся, потом задумался. Он понимал, что только отчаяние могло толкнуть Отелкова на столь абсурдное заявление, и ему стало жаль Ивана Алексеевича.
«Да так ли бездарен Отелков, как о нем говорят? И кто оценил его способности? Ведь его не проверяли на серьезной роли», — подумал Гостилицын.
Вспомнил Герман Андреевич, как он и сам доходил до отчаяния в первые годы работы в театре. Главный режиссер пять лет держал его при себе: год на побегушках, год ассистентом и три года помощником. На бесчисленные просьбы Гостилицына о самостоятельной работе шеф неизменно отвечал: «Успеешь».
И вот наконец ему доверили ставить спектакль. Сколько было мук только над первой картиной! Все пришлось вместе с автором переписывать заново. Полмесяца изнурительных репетиций, полмесяца бессонных ночей — и картина, кажется, готова. Гостилицын идет к главному режиссеру и просит его посмотреть.
— А как ты сам считаешь, хорошая получается картина? — спрашивает главреж.
— Мне кажется, еще плоховата, — чистосердечно сознается Герман Андреевич.
— И смотреть не буду, — говорит шеф и поворачивается спиной.
Опять две недели утомительной работы, и опять тот же вопрос главрежа:
— А как ты сам считаешь?
— Не знаю, — ответил Гостилицын.
— Если уж ты сам не знаешь, то как же я могу знать! — говорит шеф и опять поворачивается спиной.
Гостилицына охватывает отчаяние, душит злоба, всю ночь он кусает угол подушки, а с утра опять принимается перелопачивать проклятую картину. Сделано все: больше из автора, из артистов, из себя выжать нечего.
Он идет к шефу и докладывает, что теперь картина звучит неплохо.
— Неплохо — понятие туманное и растяжимое, — говорит шеф и поворачивается спиной.
Гостилицын сжимает кулаки и с трудом удерживает себя от уголовного преступления.
Еще две недели, и он решительно заявляет:
— Я сделал все, что мог. Пусть другой сделает лучше.
Шеф идет смотреть, а потом доказывает Гостилицыну, что все-таки можно сделать лучше.
«Какой был безжалостный тиран! Какой был художник! Это он внушил мне, что в искусстве без труда ничего не сделаешь. Если у меня и были кое-какие успехи, если кое-что удалось сделать значительное и нужное, то это случилось потому, что работал как вол и был болезненно требователен в первую очередь к самому себе».