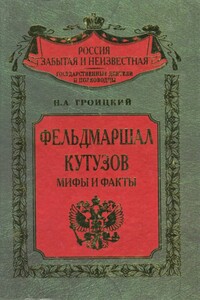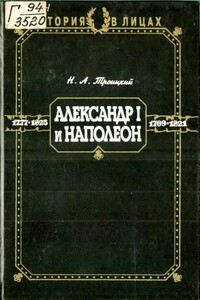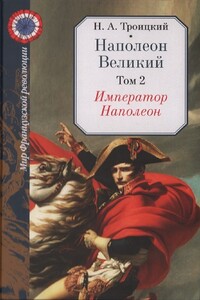1812. Великий год России | страница 35
Либерально-буржуазные исследователи (А.Н. Попов, К.А. Военский, В.И. Харкевич и др.) осудили верноподданническую фальшь и субъективизм дворянской историографии, отвергли ее коренные тезисы о единении народа вокруг трона и о решающей роли Царя в войне. Они выдвинули на передний план экономический фактор, заговорили даже о классовой борьбе в России 1812 г., но выказали другие слабости, недооценив патриотизм народных масс и преувеличив роль буржуазного, прогрессивного начала в борьбе Наполеона с феодальной Россией.
Крупнейшим достижением либерально-буржуазной и вообще всей русской дореволюционной историографии 1812 г. стал коллективный труд «Отечественная война и русское общество» в 7-ми томах под редакцией А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичеты, изданный в 1911–1912 гг. к 100-летию войны. Здесь исчерпывающе проявились как сильные, так и слабые стороны буржуазной концепции, в частности, тот объективистский (с претензией на абсолютную истину) метод исследования, о котором К.А. Военский не без гордости писал: «Перед лицом беспристрастной истории не должно быть ни своих, ни чужих, а лишь то, что дороже, выше и прекраснее всего на свете, — правда»[57].
Самое прогрессивное направление в отечественной историографии всегда рассматривало феномен 1812 г. как народную войну: «Прежде воевал Наполеон только с правительствами… теперь воюет он с народом» (Ф.Н. Глинка) и как «начало свободомыслия в России» (А.А. Бестужев). Истоки этого направления восходят от декабристов и А.С. Пушкина к Н.Г. Чернышевскому и Н.А. Добролюбову (11. С. 191; 28. T. 1. С. 271–272)[58]. Советская историография использовала научное наследие дворянских и разночинских революционеров, но главной своей опорой сочла марксистско-ленинскую методологию.
К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин действительно оставили ряд конкретных работ[59] и оценочных высказываний о войне 1812 г. — ее происхождении, событиях и людях, последствиях и значении[60]. Однако советские (особенно военные) историки зачастую лишь декорировали свои труды цитатами из классиков марксизма, утрируя одни их высказывания и замалчивая другие. Хуже того, иные из таких историков плохо знали и скандально путали сказанное классиками: приписывали (по примеру И.В. Сталина) совместную работу Маркса и Энгельса о М.Б. Барклае де Толли одному Энгельсу[61], а статью Энгельса «Бородино» и его знаменитое письмо к И. Вейдемейеру от 12 апреля 1853 г. — Марксу (2. С. 42)