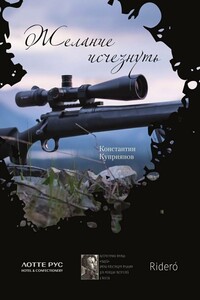О лебединых крыльях, котах и чудесах | страница 42
Еще в моей голове всплывают экзаменационный билет о совокупности триста шестнадцатой и сто пятой статей Уголовного кодекса, а также разнообразные вопросы, которые я предпочла бы никогда не задавать ни себе, ни кому-либо другому.
Размышляя обо всем этом, я делаю два шага к березовому кругляшу и внезапно осознаю, что это не пальцы. Это две усохшие сливы.
Возле терновника Вася уже ждет, примеряясь к веткам.
– Ну, – говорит, – взялись! Над чем задумалась?
Не объяснять же человеку, что за последние три минуты я помогла ему избавиться от трупа, была задержана, меня судили, впаяли двушечку и выпустили по УДО через десять месяцев. И что Николай-то, оказывается, жив, а не лежит в погребе, отражаясь в банках с огурцами или, допустим, вишневым компотом.
– Да ничего, – говорю. – Профдеформация. Потом как-нибудь расскажу.
– Ты про сливы, которые типа обрубышей? – ухмыляется Вася. – Знал, что тебе понравится!
Веер со щелчком захлопывается.
То есть вот взрослый человек. Взрослый человек нашел сморщенные желтые сливы. И обдуманно разложил их рядом с секатором, отдавая себе полный отчет в том, как это будет выглядеть. Я бы даже сказала, целенаправленно разложил. И пока я пыталась сообразить, в огурцах отражается усопший или в вишневом компоте, тихо радовался своей затее.
– Знаешь что, – говорю, слегка придя в себя. – Знаешь что! А свались я там с сердечным приступом? Сидел бы ты сейчас над моим трупом, рыдая и запоздало раскаиваясь.
– Я бы? Сидел? – удивляется Вася. – Христос с тобой, голубка. Я бы тебя в погреб спустил, к огурчикам.
– Вась, – говорю, покусывая травинку, – я про тебя в стенгазету напишу.
– Валяй, – флегматично соглашается Вася.
– Пороки твои бичевать буду, – говорю.
– Эт' какие? – интересуется Вася.
– Алкоголизм, – говорю. – И неуемную страсть к разрушению чужой собственности.
Сидим мы с ним, кстати говоря, на обломках нашего забора.
Вася с механистичностью башенного крана поворачивает ко мне косматую свою башку. Некоторое время без выражения смотрит на меня.
Я демонстративно сплевываю травинку на землю. С таким видом красный комиссар рвал рубаху: давай, стреляй в комсомольскую грудь!
Вася молчит долго, очень долго. Щурится, потягивается с хрустом. Я уже начинаю думать, что дерзость моя сошла мне с рук.
– Книжку читал, – роняет Вася без видимой связи с предыдущим. – Там про одного деятеля понравилось. – Он прищуривается. – «Был туповат и поэтому бесстрашен».
Хм. После тридцати лет общения стоило бы запомнить, что Василий, вообще-то, та еще язва.