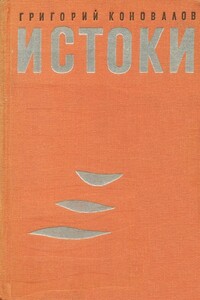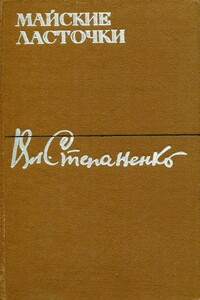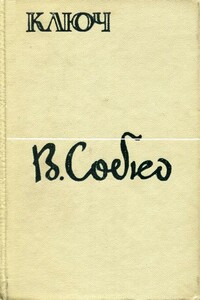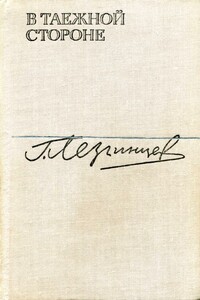Московская история | страница 16
Мы обычно доругивались в шестой аудитории, где он однажды обнял меня и поцеловал. Что это, оказывается, был поцелуй, я узнала уже потом, когда плакала. Он так утверждал, хотя после этого странного действия я целых пять минут, выпучив глаза, не могла перевести дух. А на следующее утро мама задумчиво спросила, что это за «такое лиловое» у меня на щеке.
Я, естественно, после «поцелуя» старалась больше Жене в этом смысле не попадаться. По крайней мере, в пустых аудиториях. Куда его как раз тянуло.
В такой сложной личной обстановке до меня как-то приглушенно доходили события внешнего мира. В Америке разворачивалась кампания по «расследованию антиамериканской деятельности», мелькали имена крупных ученых, писателей, кинематографистов, подвергавшихся гонениям. В Корее шла война — и воспринималась как глухой отзвук минувшей битвы, как бы последний исход мирового зла… Потом было серое, набухшее сыростью начало марта. Москва, строгая, аскетически чистая, нетронутая еще стройплощадками, держалась на пределе своего довоенного облика. Но в малолюдности узких ее переулков, в новой, непривычной еще череде лип, высаженных в гнезда, пробитые на тротуарах улицы Горького и забранных по-европейски чугунными узорчатыми решетками, уже как бы сквозило затишье накануне грядущих перемен, разительного всплеска, поворота исподволь накопленных городом сил. В скрытой за старыми стенами скученности, в образцовом порядке улиц и блещущего мрамором метро нарастало движение быстро развивающейся жизни, и молодое поколение москвичей, как бы разом и дружно подросшее, выплескивалось все явственнее, понемногу тесня спокойное и выносливое, работящее и преданное, неприхотливое женское лицо военной Москвы.
Даже в мартовское туманное и неверное утро, когда по всем статьям полагалось бы быть весне, солнышку и лужам, Москва хмурилась недоверчиво, строго, придерживаясь мнения об извечном обмане мартовских дней.
Мы шли с Женей по Тверскому бульвару, туманная, предвесенняя мгла плескалась между деревьями, под ее покровом мы добрались до памятника Тимирязеву. Почему-то именно под ним, под этим столпообразным, облаченным в каменную тогу академиком, Женя решил мне предложить руку и сердце.
— Давай поженимся, Елизавета, — сказал он. — Поженимся и станем друзьями на всю жизнь. Ты видишь, как трудно человеку одному. У человека обязательно должно быть главное дело и любимая жена. Это два основных компонента счастья. Я пока главного дела не нащупал. Я даже не представляю себе, чем бы я мог заниматься, чему отдать себя. Когда я поступал в институт, мне казалось, я знаю это точно, что у меня есть цель. Но теперь… теперь все сместилось, я должен найти какую-то определенность. Должен открыть смысл. Я только в этом вижу смысл жизни. Можно страдать, можно ошибаться, можно жертвовать собой — но ради дела, дела! Человек должен делать дело, а не существовать ради себя.