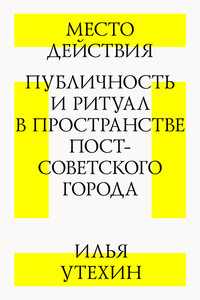Краткая история мысли. Трактат по философии для подрастающего поколения | страница 27
Второй способ более разработанный: он заключается в исполнении героических и славных поступков, о которых, может быть, сложат рассказы, то есть письменность может победить недолговечность времени. Можно сказать, что исторические книги — и ты знаешь, что в Древней Греции уже существовали крупные историки, в частности Фукидид и Геродот, — рассказывая об исключительных поступках, совершенных некоторыми людьми, спасают их от забвения, угрожающего всему, что не связано с царством природы.
Природные явления цикличны. Они повторяются бесконечно, как день сменяет ночь, зима приходит на смену осени или после грозы устанавливается хорошая погода. И их повторяемость гарантирует, что никто не сможет их позабыть: природный мир, в этом смысле отчасти, конечно, особенный, но все же постигаемый, без труда достигает некоторой формы «бессмертия», тогда как «всё, что обязано своим существованием человеку, например произведения искусства, поступки и слова, обречено на погибель, заражено, так сказать, смертностью своих авторов». Но тем не менее именно эту империю недолговечного можно, по крайней мере частично, победить благодаря славе.
Именно такой, согласно Ханне Арендт, была истинная цель исторических книг Древней Греции: рассказывая о «героических» поступках, например об Ахилле во время войны с Троей, они пытались вырвать эти факты из сферы недолговечного и уравнять их с природой:
Если смертным удалось бы снабдить свои произведения, поступки и слова хоть частичкой постоянства, избавив их от этой недолговечности, тогда они бы до некоторой степени могли проникнуть и задержаться в мире того, что существует неизменно, и смертные сами бы обрели свое место в космосе, где бессмертно все, кроме человека[15].
И это правда. В некотором отношении греческие герои не так уж и мертвы, поскольку благодаря письменности мы сегодня продолжаем читать рассказы об их деяниях. Таким образом, слава может оказаться чем-то вроде формы личного бессмертия, и поэтому многие по-прежнему жаждут ее. Тем не менее необходимо сказать, что для многих других она всегда будет всего лишь слабым утешением, чтобы не сказать — формой тщеславия…
Зарождение философии дало нам третий способ преодоления конечности человека. Я уже говорил тебе, насколько, согласно Эпиктету — который здесь, несомненно, выражает убеждение всех великих космологов, — страх смерти был решающей движущей силой к философской мудрости. Но благодаря этой мудрости экзистенциальная тревога получит в конце концов, помимо ложного утешения продолжением рода и славой, такой ответ, который особенным образом сблизит философию с религией, поддерживая основное, уже известное тебе различие между «спасением через другого» и «спасением через самого себя».