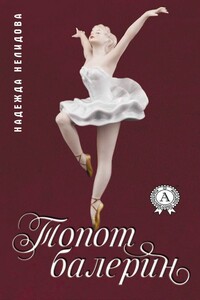Рыбка по имени Ваня | страница 8
Петька закрывает глаза и видит своего красно-синего робота. Он прицеплен за ниточку к зеркалу, освещённому настольными лампами. Потом зеркало и лампы, и трансформер начинают качаться и дрожать от глухих взрывов наверху. Воет сирена. Слышится жестяной голос: «Граждане, воздушная тревога!».
Билетёрша, с брошкой на телогрейке, замотанная в платок, наклоняется и говорит: «У нас всегда аншлаг. Просто сейчас не сезон, сами понимаете. Война».
— Ты смотри, два часа сидел и ни строчки не написал! Поросёнок такой! Снова двойку принесёт!
Петьку раздевают, переносят на кровать, чмокают в макушку и укутывают. Он засыпает.
Маразм и солнце, день чудесный!
Ну, ещё не совсем день. Зимнее солнце встаёт поздно, вальяжно. Как бы лениво раздумывает: «Вставать — не вставать? А не то — завалиться, дремать дальше, укутавшись в синюю дымчатую кисею…»
Зато небо! От востока к западу — самых разных, неуловимо сливающихся оттенков: чернильного, фиалкового, зеленоватого, бирюзового, оранжевого… И — морозно-алый узкий поясок там, где предполагается восход солнца. Будто на огромной палитре художник-растяпа разлил жидкую радугу. Или — взмахом кисти заставил замереть, застыть северное сияние.
Ни свет ни заря, телефонный звонок. Поприветствовав меня должным образом, моя подруга Маша, поэтесса и блогер (уж она, в отличие от меня, известна!), бесцеремонно напоминает:
— Надеюсь, дружок Альцгеймер всего лишь изредка трахает тебя и ничего, кроме челюстей в стакане и газоотводной трубки, пока в твоей квартире не держит? Пока. Ты не забыла, что сегодня поэтический вечер? Жду к четырём. Да, прихвати пенку для волос: у меня закончилась.
И ещё несколько раз в течение дня Маша перезванивает. Такое чувство, будто у неё там полыхает пожар. Она панически вопит, чтобы я принесла также бесцветный лак для ногтей (засох, зараза!). И тени для век (у неё платье зёлёное, а у меня тени как раз ужасного, безвкусного болотного цвета). Потом, чтобы не забыла складную обувную ложечку. Потом ещё что-то…
Маша презирает уси-муси, обнимашечки, чмоки-чмоки и прочие слюнявые бабские штучки. Когда вхожу, величественно тычет мне в лицо ладонью, тыльной стороной книзу, как для поцелуя. Спохватывается:
— Ах, да…
— По большому счёт, творчество — сугубо женская стихия. Нечего мужикам туда соваться, — рассуждает она, пока я жужжу феном над её мокрой, маленькой как у цыплёнка головой, с просвечивающей розовой лысинкой. Пытаюсь взбить из жидкой поросли пышную корону. — Мужчина — испокон века кормилец, добытчик. На нём многопудовая тяжесть: семья, детишки пищат, есть просят. Жена пилит: «Где деньги, Дим? Шубу хочу!».